Буонарроти, Микеланджело. Michelangelo di Buonarroti

Микеланджело Буонарроти, полное имя Микеланджело ди Лодовико ди Леонардо ди Буонарроти Симони (Michelangelo di Lodovico di Leonardo di Buonarroti Simoni; 6 марта 1475, Капрезе — 18 февраля 1564, Рим) — итальянский скульптор, художник, архитектор, поэт, мыслитель.
Всеобщая история архитектуры:
Микеланджело родился в 1475 г. в местечке Капрезе близ Флоренции и умер в 1564 г. в Риме. В 1488 г. он поступил в мастерскую Гирландайо во Флоренции, а с 1490 г. был взят во дворец Лоренцо Медичи, после смерти которогов 1492 г. возвратился к отцу. Дальнейшая его деятельность протекала в основном во Флоренции (1501—1505 и 1520—1534 гг.) и в Риме (1496—1501, 1505—1520 и 1534—1564 гг.).
В марте 1505 г. Микеланджело по приглашению Юлия II приехал в Рим, где заключил контракт на изготовление грандиозной мраморной гробницы папы, над которой работал с перерывами всю жизнь.
В 1508—1511 гг. Микеланджело выполнил одну из своих крупнейших работ — роспись свода Сикстинской капеллы. К 1516 г. относится начало его архитектурной деятельности: эскизы фасада церкви Сан Лоренцо во Флоренции.
Во Флоренции Микеланджело соорудил по заказу Медичи новую сакристию при церкви Сан Лоренцо со знаменитыми скульптурными группами пристенных надгробий (работы велись с перерывами между 1520—1534 гг.), библиотеку Лауренциана (1523—1526 и 1530—1534 гг., закончена Амманати в 1558—1568 гг., много времени спустя после отъезда Микеланджело в Рим и его смерти там). Во Флоренции Микеланджело возводил укрепления и участвовал в защите города.
Во время последнего пребывания в Риме Микеланджело выполнил свою вторую грандиозную живописную работу в Сикстинской капелле — фреску «Страшный суд» на алтарной стене (начата в 1533 г., картон был готов в 1535 г., окончена в 1541 г.). После смерти Антонио да Сангалло Младшего Микеланджело в 1546 г. получил сразу три архитектурных поручения: окончание собора св. Петра (руководство работами — с января 1547 г., окончание главного барабана и изготовление терракотовой модели купола в 1557 г., деревянной модели в 1558—1561 гг.); окончание строительства палаццо Фарнезе и реконструкция площади и дворцов на Капитолии, которые были завершены после смерти мастера (новый цоколь для статуи Марка Аврелия — 1538 г.; начало строительства дворцов — 1560 г.). Кроме того, Микеланджело сделал набросок лестницы в нише брамантевского Бельведера (1550 г.), рисунки для церкви Сан Джованни деи Фьорентини (с 1550 г.), модель дворца для Павла III (1551 г., не сохранилась), перестроил Порта Пиа (с 1561 г., не окончена) и создал в руинах терм Диоклетиана церковь Санта Мария дельи Анджели (1563—1564 гг.).
Микеланджело — гениальный скульптор, живописец и архитектор — был одним из последних «универсальных людей» Возрождения, со всей страстностью своего темперамента преданным передовым идеалам итальянского гуманизма — не только эстетическим, но и общественным. И те и другие были великолепно выражены в принесшей двадцатишестилетнему мастеру славу гигантской статуе юного Давида, символизировавшей вольный дух демократической Флоренции и гордую веру в безграничные возможности человека. Однако долгая жизнь Микеланджело совпала с периодом, когда историческая обреченность индивидуалистической культуры буржуазного гуманизма становилась все более очевидной. Остро чувствуя эту обреченность, Микеланджело отразил ее трагизм в скульптурных образах прекрасного и могучего, но скованного человеческого тела, выражавших пафос героической борьбы духа с косной материей.
Подобные образы были включены и в грандиозный проект гробницы Юлия (рис. 11), выполненный Микеланджело в 1505 г. по поручению папы, желавшего при жизни построить себе мавзолей. История проектирования этой гробницы, над которой мастер работал в течение всей своей жизни, не может быть полностью восстановлена, однако позволяет наметить эволюцию его мировоззрения. По первому из шести проектов надгробие представляется свободно стоящим сооружением (напоминающим античные квадрифроны), обработанным ордером, арками и нишами для размещения сорока больших (в рост человека) скульптур. Пирамидальный верх мавзолея увенчивался саркофагом со скульптурными изображениями папы. Мавзолей должен был прославлять церковь и папу, но вместе с тем был полон античных реминисценций и при помощи характерных для того времени аллегорических изображений искусств и добродетелей создавал образ полной творческих сил Италии и ее расцветающей культуры.
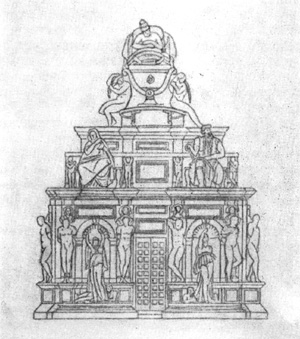 |
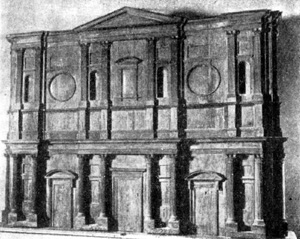 |
| Рис.11. Рим. Гробница папы Юлия II, реконструкция первого проекта (1505 г.). Микеланджело | Рис.12. Флоренция. Деревянная модель для фасада Сан Лоренцо. Баччо д’Аньоло, по рисунку Микеланджело, 1517 г. |
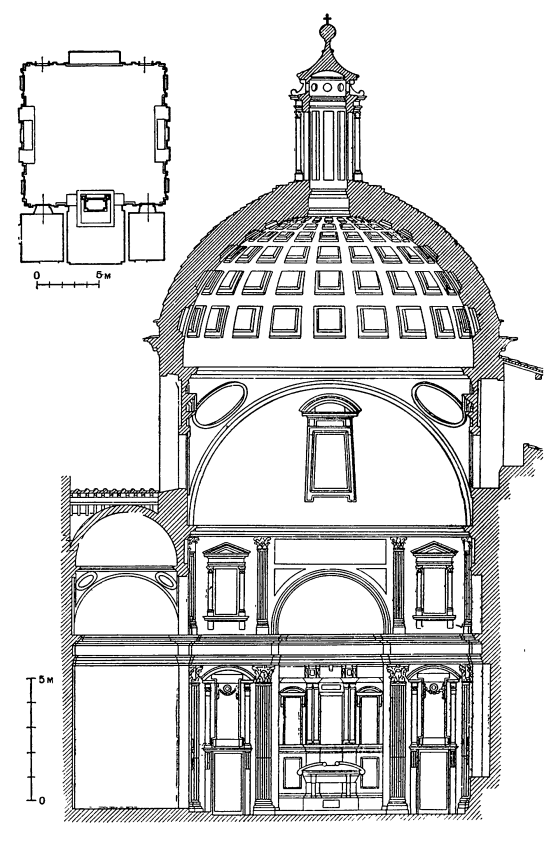 |
|
| Рис.13. Флоренция. Капелла Медичи (Новая сакристия) церкви Сан Лоренцо, с 1520 г. Микеланджело. Фрагменты интерьера; план и разрез | |
 |
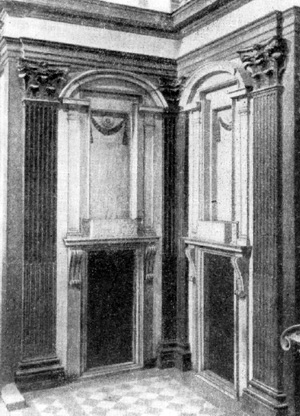 |
Микеланджело, разрабатывавший этот проект с огромным творческим подъемом, видел в его осуществлении одну из важнейших задач своей жизни и не мог примириться с тем, что папа прервал работу, увлеченный строительством нового собора св. Петра. Микеланджело должен был по настоянию папы взяться за роспись свода Сикстинской капеллы в Риме, выполненную им без помощников и потребовавшую поэтому пяти лет поистине титанического труда.
Второй проект мавзолея, сочиненный Микеланджело после смерти Юлия II (1513 г.), согласно желанию наследников представлял пристроенное надгробие, сохранившее масштаб и общий характер первого замысла, но увенчанное статуей Богоматери (с аркой над ней). Дошедший до нас рисунок показывает, однако, что в классическую ясность пирамидальной композиции были внесены новые элементы внутреннего напряжения и скрытой страстности (в фигурах скованных рабов на первом ярусе и в «Моисее» — на втором).
В процессе дальнейшей переработки проекта (1516 г.) надгробие потеряло первоначальный размах и объемность и должно было быть закончено с использованием ранее изваянных фигур (1522 г.).
Пятый проект (договор 1532 г.) еще скромнее и рассчитан на установку надгробия в церкви Сан Пьетро ин Винколи, где оно было завершено в 1545 г. на основании последнего проекта, разработанного шестидесятилетним художником после 1542 г. К тому времени из композиции надгробия уже исчезли последние отголоски темы античных триумфов. Некоторые исследователи видят в этом переход художника от «языческого» культа красоты и платонизма к «строгой», т. е. церковной религиозности. В действительности в изменениях проекта сказались прежде всего феодально-католическая реакция и порожденный ею у художника глубокий пессимизм. Образ надгробия получил более отвлеченный и символический характер, утеряв свое глубокое эмоциональное содержание: в отполированных мраморных статуях Рахили и Лии нет внутреннего напряжения, зрителя поражает только исполинский образ Моисея с его поистине устрашающей мощью, свидетельствующей, что у Микеланджело еще сохранилась вера в человека и в неисчерпаемость его творческих сил.
В 1516 г. Микеланджело получил от папы Льва X первый архитектурный заказ — составить (вместе с Баччо д’Аньоло) проект фасада церкви Сан Лоренцо, с которой связаны и его позднейшие работы во Флоренции. Завершением церкви папа хотел прославить свой род Медичи, на средства которых она была построена Брунеллеско столетием раньше.
Сохранившаяся деревянная модель фасада (рис. 12), сделанная Баччо д’Аньоло по эскизам Микеланджело в начале 1517 г. и обычно преподносимая в качестве изображения микеланджеловского замысла, в действительности не удовлетворила мастера. Это объясняется, вероятно, искажением в модели пропорций, найденных в эскизах, слишком вялым выделением центра фасада и несоответствием модели членениям плана.
Микеланджело сам взялся за выполнение модели из глины. Избранный им материал, позднейшие наброски и засвидетельствованное в одном из его писем намерение сделать архитектуру и скульптуру церкви «зеркалом всей Италии» позволяют предположить, что мастер задумал пластичный, сильный по рельефу и светотени фасад, предельно насыщенный скульптурой, синтез которой с зодчеством, по-видимому, являлся для него здесь (как и в гробнице Юлия II) одной из главных творческих задач. Однако этот замысел не был осуществлен.
Эта проблема синтеза скульптуры и архитектуры возникла перед Микеланджело и при создании капеллы Медичи, или Новой сакристии, в той же церкви Сан Лоренцо (начата в 1520 г., скульптуры установлены в 1545 г.; рис. 13). Эта капелла должна была стать монументальным мавзолеем семьи Медичи. Интерьер ее связан с интерьерами церкви и Старой сакристии Брунеллеско самим отбором архитектурных средств — выделением на светлом фоне стены более темных членений, определяющих тектонику интерьера. Но введение дополнительного горизонтального яруса и сложная рельефная обработка стен придали композиции скрытую динамику, лишив ее ясного спокойствия и легкости, присущих сакристии Брунеллеско.
Следующая, чисто архитектурная (не связанная со скульптурой) работа Микеланджело — библиотека Лауренциана во Флоренции, сложное и во многом противоречивое произведение (рис. 14, 15).
 |
 |
| Рис.14. Флоренция. Библиотека Лауренциана, 1559 г. Микеланджело. Вид вестибюля, разрезы и план | Рис.15. Флоренция. Библиотека Лауренциана. Зал |
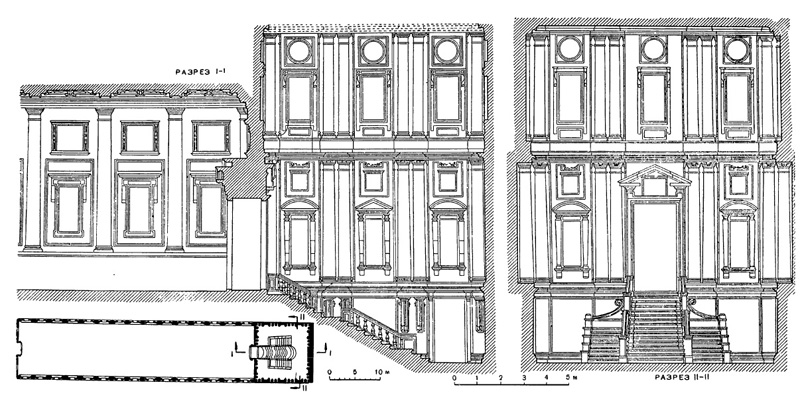 |
|
В интерьере длинного читального зала (его проект закончен в 1524 г.) беспокойное впечатление от стен, дробно расчлененных пилястрами и наличниками многочисленных, большей частью «слепых», окон умеряется сильной и праздничной гаммой, образуемой коричнево-золотистым деревом потолка и пюпитров (выполненных по рисункам мастера), зеленым цветом пилястр и узорчатым терракотовым полом.
Спроектированный два года спустя вестибюль библиотеки приближается в плане к квадрату. Его непомерная высота, вызванная необходимостью устроить окна выше примыкающих крыш, лишь подчеркивает тесноту помещения, в котором едва размещается знаменитая, словно застывшая в своем движении лестница. Ее размеры и сложность кажутся преувеличенными, тем более, что она соединяется с дверью зала лишь одним узким маршем. Возможно, что Микеланджело хотел придать лестнице особое значение, чтобы лучше связать ее с главным помещением. На это указывает желание мастера выполнить ее из дерева (Амманати сделал ее каменной), примененного в отделке зала в таком изобилии. Еще более противоречивое впечатление производят стены вестибюля; трехчетвертные колонны заглублены в стену и так же неоправданы, как и консоли под ними; контрастное применение темно-серого и белого цветов не способствует (в отличие от интерьеров Брунеллеско) ясности композиционного замысла и производит резкое, почти суровое и в то же время беспокойное впечатление.
Доминирующая роль массы стены в вестибюле, композиционное значение, которое мастер придал лестнице, и динамизм ее форм, несомненно, предвосхитили характерные черты барокко. Однако тектонический алогизм вестибюля и отсутствие ясного развития композиции в глубину (резкий контраст между высоким вестибюлем и более низким, чрезвычайно вытянутым залом) заставляют отнести это произведение к числу первых и характернейших образцов маньеризма в архитектуре.
Деятельность Микеланджело в течение последнего пребывания в Риме (1534—1564 гг.) протекала в резко изменившихся общественно-исторических условиях.
Папский двор из центра консолидации гуманистической и общеитальянской национальной культуры быстро превращался в центр реакционной контрреформации, боровшийся в союзе с европейским абсолютизмом против наиболее прогрессивных тенденций молодой буржуазии и ее идеологии.
Начиная с 1530-х годов в архитектуре Рима все яснее намечаются два течения. Одно из них, крепко связанное с идеологией воинствующей католической церкви, вскоре привело к барочному искусству; другое, пытавшееся сохранить верность архитектурным идеалам Возрождения и примирить их с новыми общественными требованиями, в свою очередь разделилось на два русла: маньеризм, связанный с аристократической верхушкой (он развивался преимущественно вне Рима) и академизм виньоловского толка, подготовивший появление в Европе стиля «классицизм».
Роль Микеланджело, творчество которого нередко связывают исключительно со становлением стиля барокко, в действительности значительно более сложна и противоречива. Хотя своей разработкой композиционных приемов и архитектурных форм он, несомненно, подготовил развитие барочного зодчества, в его собственных произведениях эти приемы и формы в значительной мере служат еще гуманистическим идеалам Возрождения. В этом убеждает, например, начатая по проекту Микеланджело реконструкция площади на Капитолийском холме.
Ансамбль Капитолия (рис. 16, 17) — первое крупнейшее архитектурное поручение, полученное Микеланджело от папы Павла III (1536 г.). Некогда самое знаменитое место древнего Рима, Капитолий пришел в запустение в средние века. Расположенные здесь строения обветшали или совсем разрушились и требовали расчистки и упорядочения. Микеланджело энергично взялся за это дело.
 |
 |
| Рис.16. Рим. Капитолий, с 1538 г. Микеланджело | |
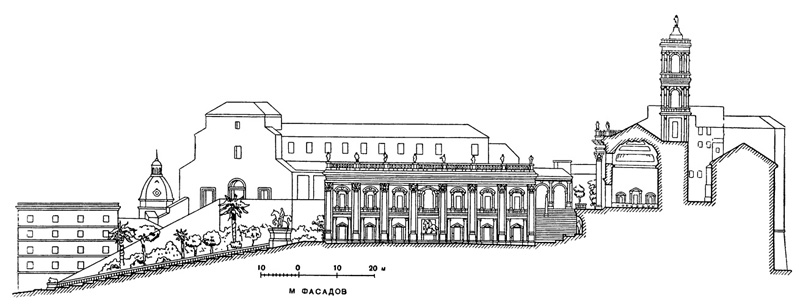 |
|
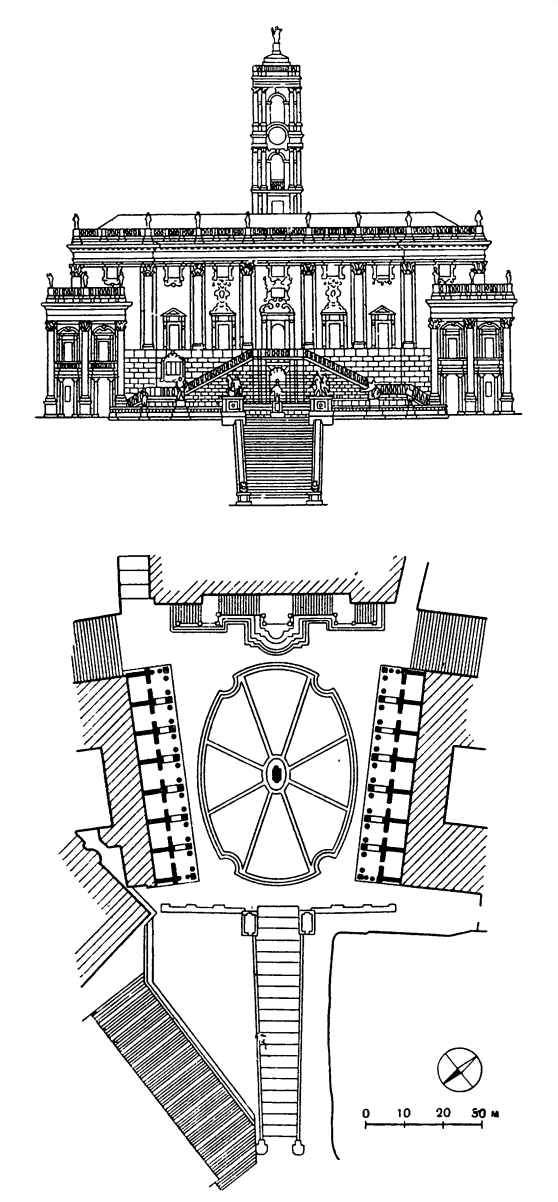 |
|
 |
 |
| Рис.17. Рим. Капитолий. Один из боковых портиков (Виньола) и фрагмент фасада музея | |
Несмотря на то, что при жизни мастера были осуществлены лишь отдельные элементы ансамбля, он был завершен в полном соответствии с первоначальным проектом и являет собой один из редких примеров единовременно задуманного архитектурного ансамбля эпохи Возрождения.
Микеланджело, по-видимому, больше стремился увековечить славное прошлое и традиции государственности античного Рима, чем прославить современное папское государство. Исходная идея Микеланджело выразилась в общественном значении зданий, окружающих площадь, а также в исключительной роли, которую он предоставил античной скульптуре, не только отведя один из дворцов для ее хранения, но и отдав ей важные позиции в самом ансамбле.
Зодчий вынужден был считаться с остатками старых зданий: прежде всего с палаццо Сенаторов, построенным в средние века на руинах римского Табулария, и палаццо Консерваторов. С противоположной стороны граница определялась высоким холмом и церковью Санта Мария дельи Арачели.
Главным сооружением ансамбля, расположенным по оси площади и замыкающим ее заднюю сторону, является трехэтажное палаццо Сенаторов, украшенное парадной двусторонней лестницей и увенчанное башней (фасад выполнен Джироламо Ринальди (1592 г.), башня — М. Лунги Старшим (1579 г.). По обеим сторонам площади, сужающейся к ее открытой (это расположение обусловлено античными руинами, включенными в палаццо Консерваторов, но отвечает композиционным принципам, заложенным Росселино в центральном ансамбле Пиенцы), обращенной к подходу стороне, симметрично поставлены двухэтажные здания с одинаковыми фасадами. Лишь одно из них — палаццо Консерваторов — частично получило новый внешний облик при жизни мастера, другое — Капитолийский музей (сокровищница античной скульптуры, на плане слева) — было закончено в XVII в.
Внешний облик капитолийских сооружений представляет совершенно новое явление в итальянской архитектуре и знаменует собой важный шаг в ее развитии.
По всей длине боковых зданий на высоте первого этажа устроены глубокие портики. Они перекрыты горизонтальным архитравом, покоящимся на ионических колоннах. Тяжесть второго, более высокого этажа умеряется могучими коринфскими пилястрами большого ордера (один из первых примеров применения этого приема в гражданской архитектуре Италии), объединяющего оба этажа. Поставленные на особые пьедесталы пилястры несут непрерывный антаблемент с бросающим большую тень карнизом, который, в свою очередь, увенчивается парапетом с редко расставленными статуями. Ионические колонны портика первого этажа, поставленные по бокам больших пилястр, как бы продолжают в глубину пластическую разработку фасада и подчеркивают массивность стены.
Могучая пластика фасада усиливается ордерной обработкой окон — с треугольными фронтонами в глубине портика, сегментными и треугольными во втором этаже. Сочетание кирпича и травертина вводит в архитектуру фасада яркий двухцветный колорит.
Фасад палаццо Сенаторов, составляющий как бы заднюю кулису ансамбля, не имеет портика; его характер более плоскостной, несмотря на вынесенные вперед лестничные марши и боковые ризалиты. Основное помещение палаццо — двухсветный зал — выходит на главный фасад, пилястры которого близки по характеру пилястрам боковых палаццо, но расставлены более широко, не имеют пьедесталов и подняты на высокий цоколь. Связывая все три здания и подчеркивая большую высоту дворца Сенаторов, эти пилястры вместе с тем вносят разнообразие в ансамбль.
Парадные, развернутые в стороны лестницы дворца — последнее, что было начато еще при жизни мастера. Однако окончательная доработка их несколько отличается от первоначального замысла. Так, в центральной нише лестницы Микеланджело собирался поместить колоссальную статую капитолийского Юпитера, а не сравнительно небольшую — Рима. Это, без сомнения, значительно органичнее связало бы античную скульптуру с современным итальянским искусством, которое должно было быть представлено лежащими фигурами «Нила» и «Тибра» работы самого Микеланджело (обе предназначались в свое время для гробницы Медичи).
Обработка верхней площадки лестницы показывает, что Микеланджело хотел соорудить здесь небольшой портик, вероятно, вроде того, который помещен на гравюре Пейрака, изображающей Капитолий по проекту Микеланджело.
В центре площади еще в 1538 г. была водружена превосходная античная конная статуя императора Марка Аврелия (II в. н. э.), которая отметила не только геометрический, но и композиционный центр ансамбля. Установка этой статуи ознаменовала собой начало строительства ансамбля.
Великолепно скомпонованный Микеланджело пьедестал статуи скромен по размерам и тем подчеркивает ее значение. Белый и зеленый мрамор пьедестала ярко выделяется среди темных и теплых по тону зданий.
Микеланджело использовал двухцветную гамму и в замощении площади (травертином и кирпичом), близком к античным образцам, но отличающемся от них динамичностью рисунка, словно разлетающейся из центра восьмиконечной звезды (этот рисунок восстановлен в 1940 г.). Центральный овал площади понижен, а ее периферийные части поднимаются несколькими плоскими ступенями. Центр овала чуть приподнят для отвода дождевых вод.
В ансамбле Капитолия (как и в замысле завершения палаццо Фарнезе) Микеланджело проявил себя замечательным градостроителем. Блистательно пользуясь средствами архитектуры, скульптуры, цветом и т. п., используя рельеф, он искусно связал ансамбль с примыкающими частями города. Среди тесной застройки, окружавшей Капитолийский холм (ныне эта застройка значительно разрежена в связи с возведением в конце XIX в. огромного памятника Виктору Эммануилу), Микеланджело безошибочно выбрал основные оси композиции. Улица Арачели, служившая главным подходом к ансамблю, несколько расширялась у подножия холма. Образовавшееся здесь вытянутое пространство, ставшее преддверием Капитолийской площади, удачно скрадывает угол между осью улицы и главной осью ансамбля. Эта ось определяет направление ведущей на холм великолепной широкоступенчатой лестницы, начатой еще самим Микеланджело (Разделенная на наклонные ступени с уменьшенными до предела подступенками, эта лестница стала прообразом многочисленных лестниц такого рода в парках итальянских вилл во второй половине XVIв.).
Ось лестницы, ведущей на Капитолий, а также ось другой, более крутой и высокой лестницы, ведущей к церкви Санта Мария дельи Арачели, пересекаются под острым углом (словно спицы колеса) в одной точке площади, которая воспринимается благодаря этому как конец улицы и начало Капитолийского ансамбля.
При подходе к лестнице и площади Капитолия видны лишь узкие торцы боковых зданий и верхняя часть скрытого за подпорной стенкой палаццо Сенаторов. Зато симметрично поставленные по сторонам верха лестницы античные группы Диоскуров (вопринимаемые словно авангард всей армии античных скульптур, имеющих такое важное значение в общем замысле ансамбля) ясно отмечают воздушную границу площади и окружающего ее пространства. Парапет, завершающий подпорные стенки площади Капитолия и хорошо видимый при подходе к ней, выполнен также по рисункам Микеланджело.
Четкое разграничение и вместе с тем связь архитектурно организованного пространства площади (или системы площадей) с природой (или с окружающим городом), искусный показ сооружений в живописной смене аспектов и с разных уровней, чередование манящих перспектив и полных покоя архитектурных мизансцен — все эти свойства, лежащие в основе непревзойденного обаяния старых итальянских городов и их ансамблей, реализованы в Капитолии более сознательно, чем прежде, с новой динамикой и драматизмом. Так, если в ансамблях кватроченто зритель обычно уже «с порога» видит между зданиями перспективу улицы или ясные дали, то на Капитолии он может удовлетворить свое любопытство, лишь миновав центр площади, когда перед ним раскроются новые объекты интереса, а с ними и новые качества ансамбля. Тогда сквозь разрывы по сторонам палаццо Сенаторов он видит уходящие в стороны лестницы, одна из которых ведет к боковому фасаду церкви Санта Мария дельи Арачели, другая к портику на так называемой Тарпейской скале (лестницы и замыкающие их арочные портики построены Виньолой). И только огибая палаццо Сенаторов, можно увидеть раскинувшиеся позади Капитолия руины римских форумов и вдали Колизей.
Одновременно с ансамблем Капитолия Микеланджело, начиная с 1547 г., руководил строительством собора св. Петра (рис. 18—22). Грандиозные масштабы и архитектурно-строительная сложность этого сооружения, крупнейшего не только в Италии, но и во всей тогдашней Европе, как нельзя более соответствовали творческому размаху гениального мастера. Семидесятидвухлетний Микеланджело с увлечением взялся за это почетное поручение, отказавшись от вознаграждения, и посвятил ему последние 17 лет своей жизни. Уже на пятнадцатый день мастер закончил глиняную модель. Сущность его замысла вполне раскрывается в архитектуре самого собора, несмотря на ряд позднейших отступлений. Беспощадно раскритиковав все сделанное до него, Микеланджело добился папской санкции на серьезные переделки и даже на разборку уже возведенных Сангалло частей и в основном закончил собор, осуществив свой замысел в большей мере, чем его предшественники.
Решающим шагом Микеланджело было возвращение к центрическому плану, восхищавшему мастера, верного гуманистическим идеалам Возрождения. Но он внес в первоначальный план Браманте совершенно новые черты, изменившие не только отдельные элементы, но и общий характер всего сооружения. Жертвуя четко проработанной расчлененностью плана, мастер старался достигнуть большей слитности композиции и безусловного господства ее основного ядра: пространства средокрестия — внутри и главного купола — снаружи Микеланджело соответственно упростил воздушный, тонко прорисованный план Браманте, отказался от колоннады как средства внутреннего расчленения собора и резко увеличил массивность стен и устоев, чем добился полного преобладания центрального пространства над окружающими его частями; последние утеряли при этом относительную самостоятельность, которая им отводилась в проекте Браманте. Исчезли и тонкие масштабные градации внутренних пространств.
Микеланджело добился большей простоты и слитности наружной композиции, отказавшись от ордерных галерей и угловых кампанил (во внешнем облике собора это выявило равносторонний крест, лежавший в основе его плана) и объединив основные помещения в общем объеме, завершенном центральным куполом (купол возведен Джакомо делла Порта после смерти Микеланджело, в основном по его модели, но с одним важным отступлением: стрела подъема была несколько повышена). гигантские размеры купола должны были подчеркиваться четырьмя малыми куполами, заменившими кампанилы.
Внешний облик собора приведен в соответствие с разработкой интерьера: и там и здесь применены пилястры колоссального коринфского ордера (чуть более высокие снаружи), расположенные парами в родственном ритме. Цилиндрическим сводам собора снаружи соответствовал высокий аттик, окна которого стали важным дополнительным источником света. Парные лизены в аттиковом этаже и парные колонны вокруг барабана главного купола и его фонаря придали единообразие внешнему облику собора, абсолютная симметрия которого была, однако, решительно нарушена мастером. Он сосредоточил все входы на оконечности восточной ветви креста, где должен был быть величественный многоколонный коринфский портик.
Микеланджело придал собору более слитный, массивный характер, сохранившийся несмотря на ряд позднейших изменений (без переделок снаружи остались лишь западная сторона и боковые апсиды). В известной мере сохранилась и некоторая неясность масштабности, связанная с меньшей расчлененностью огромного сооружения: действительные размеры собора осознаются не сразу и не без усилий.
Деятельность Микеланджело в качестве военного инженера обычно лишь кратко отмечается в общих работах по истории архитектуры. Между тем огромный размах оборонительного строительства под его руководством во Флоренции и одно лишь перечисление других укреплений, спроектированных им в течение последней трети жизни, показывают, что зодчий стоит в ряду наиболее выдающихся военных инженеров своего времени.
Микеланджело был назначен руководителем всего строительства укреплений Флоренции в 1529 г. В течение нескольких месяцев он проделал здесь поистине титаническую работу. Хорошее представление об этих работах дает фреска Вазари (во флорентийском палаццо Веккио), а также его набросок к фреске, специально посвященной линии оборонных сооружений Микеланджело.
Удачное расположение укреплений, а также глубокая продуманность архитектуры фортов засвидетельствованы многими историческими и военными сочинениями. Именно поэтому войска императора Карла V, быстро продвинувшиеся по Италии вследствие полной несостоятельности средневековых укреплений перед новым грозным оружием, прочно застряли у возведенных Микеланджело стен Флоренции.
Микеланджело, по-видимому, первый в истории военно-инженерного искусства применил на всех обстреливаемых участках стен земляное покрытие (оно возобновлялось каждую ночь), а ряд зданий был защищен тюками знаменитой флорентийской шерсти, подвешенными на канатах к свесам кровли.
Микеланджело сэкономил для республики огромные средства и время, широко применяя вместо сплошных каменных — стены, в конструкции которых большую роль играла земляная засыпка, укрепленная деревянными связями, а держащая землю облицовка была сделана из сырцового кирпича с примесью навоза и конопли. Земляное покрытие (откос) было последним наружным слоем.
Стенам форта придавались причудливые, изломанные в плане очертания для того, чтобы по возможности избежать фронтальных попаданий и повысить процент косых, скользящих ударов; бойницы давали возможность вести огонь вдоль каждого участка стены, защищая его от лобовой атаки.
Особого упоминания заслуживает прием защиты ходов, соединявших земляные стены крепости с каменными фортами и башнями, который был применен и Антонио да Сангалло Младшим (рис. 23).
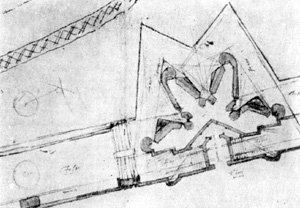 |
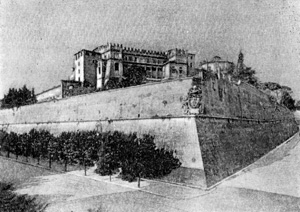 |
| Рис.23. Флоренция. План бастиона, 1529 г. Рисунок Микеланджело | Рис.24. Рим. Укрепления Борго, Бастион Бельведера. Микеланджело |
Эти меры в сочетании с расположением укреплений на всех доступных высотах местности, стремление избежать далеко выходящих за общую цепь и потому наиболее уязвимых мест обороны, отказ от всякого рода парапетов и прочих выступов — все это сделало неуязвимыми укрепления Флоренции, которая после десятимесячной обороны была взята лишь в результате измены.
Микеланджело был привлечен вместе с Антонио да Сангалло к укреплению Рима. После удачного соревнования Микеланджело было поручено спроектировать незаконченные стены Борго, включая и бастион Бельведера (рис. 24), построенный в основном из кирпича с травертином на вертикальных гранях и в горизонтальных тягах. Герб Фарнезе был использован здесь в декоративных целях.
Микеланджело принадлежит также проект возведенной в устье Тибра для защиты от пиратов многогранной башни св. Михаила.
В 1535 г. Микеланджело было поручено окончание крепости в Чивита Веккиа. Он поднял стены главного восьмигранного бастиона на 11 м, завершив его гербом Фарнезе и скромным карнизом, в котором сухарики невольно ассоциируются с машикулями. Фриз бастиона, украшенный высеченными в плоском рельефе очертаниями герба Фарнезе, предвосхищает карниз палаццо Фарнезе в Риме.
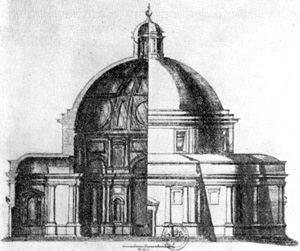 |
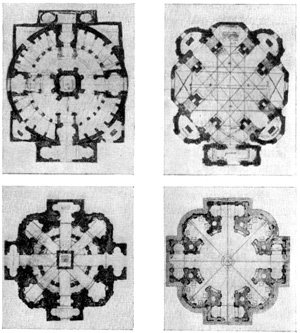 |
| Рис.25. Рим. Церковь Сан Джованни деи Фьорентини. Проект Микеланджело, 1550—1559 г. Фасад, разрез, четыре варианта плана | |
В 1559 г. Микеланджело выполнил по заказу флорентийской колонии в Риме пять проектов ранее начатой церкви Сан-Джованни деи Фьореонтини (рис. 25) (начата в 1530г. по проекту Я. Сансовино. Закончена к 1588 г. по проекту Дж. делла Порта). Планы четырех из этих проектов известны: три — в собственноручных эскизах мастера, последний, выбранный заказчиками, в копии его ученика Кальканьи; внешний вид и разрез храма по этому проекту известны из современной гравюры. Суровая простота архитектуры, отсутствие декора и скульптур дают повод ряду исследователей усомниться в соответствии гравюры микеланджеловскому проекту. Однако в цельности интерьера и пластической слитности внешнего объема церкви, завершенного безраздельно господствующим сферическим куполом, явно выражен индивидуальный почерк великого мастера. Любопытна внутренняя обработка купола перемежающимися кругами и прямоугольниками, а также окна в барабане, остроумно связывающие внешний облик церкви с ее интерьером.
Еще одна церковь была задумана и построена Микеланджело в наиболее сохранившейся части терм Диоклетиана. Это — церковь Санта Мария деи Анджели алле Терме, для которой мастер использовал центральный зал тепидария, закрыв ненужные проемы и сделав две большие двери по торцам (рис. 26).
Церковь заложена в августе 1561 г., строительные работы развернулись только в 1563 г. и в основном закончены в 1566 г.
 |
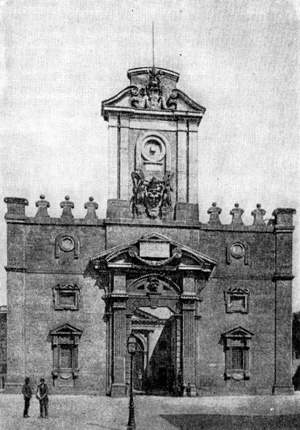 |
| Рис.26. Рим. Церковь Санта Мария деи Анджел и алле Терме. Микеланджело | Рис.27. Рим. Порта Пиа, с 1561 г. Микеланджело |
Микеланджело посвятил архитектуре лишь долю своих поистине титанических творческих сил, но достаточно было бы лишь купола собора св. Петра и ансамбля Капитолия, чтобы поставить его в ряд крупнейших зодчих эпохи. Его архитектурное наследие, насчитывающее до полутора десятков сооружений, полностью или частично им спроектированных, включает, помимо рассмотренных, еще многие выдающиеся памятники, например, нишу Бельведера в Ватикане, Порта Пиа (рис. 27), капеллу Сфорца в церкви Санта Мария Маджоре в Риме и много укреплений.
Все сооружения Микеланджело отмечены рядом родственных черт и ярко отражают ему одному свойственное стремление к величавой монументальности и одновременно к динамичности архитектуры. Микеланджело в отличие от Рафаэля и Браманте интересовался не светлыми пространствами спокойных интерьеров и ясно показанной гармонией хорошо уравновешенных усилий в тектонике сооружений, но пластической выразительностью самой архитектурной массы. Разработка этого нового архитектурно-художественного качества, сыгравшего такую важную роль в стилистическом комплексе барокко, являлась важным вкладом Микеланджело в современную ему итальянскую архитектуру.
Глава «Архитектура Рима», подраздел «Архитектура Италии 1520—1580 гг.», раздел «Архитектура эпохи Возрождения в Италии», энциклопедия «Всеобщая история архитектуры. Том V. Архитектура Западной Европы XV—XVI веков. Эпоха Возрождения». Ответственный редактор: В.Ф. Маркузон. Автор: В.Ф. Маркузон. Москва, Стройиздат, 1967
Жизнеописание Микеланджело Буонарроти — флорентинца — живописца, скульптора и архитектора
(Джорджо Вазари. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих)
В то время как деятельные и отменные умы, просвещенные знаменитейшим Джотто и его последователями, изо всех сил стремились даровать миру образцы доблести, коей благосклонность созвездий и соразмерное смешение влажных начал одарили их таланты, и в то время как они, полные желанием подражать величию природы превосходством искусства, дабы достичь, насколько было им возможно, высшего познания, именуемого многими «интеллигенцией» повсеместно, хотя и напрасно, этого добивались, тот, кто благосклоннейше правит небесами, обратил милосердно очи свои на землю и, увидев бесконечную пустоту стольких усилий, полную бесплодность самых жарких стремлений и тщеславие людского самомнения, отстоящего от истины дальше, чем мрак от света, порешил, дабы вывести нас из стольких заблуждений, ниспослать на землю такого гения, который всесторонне обладал бы мастерством в каждом искусстве и в любой области и который один, собственными усилиями показал бы, что совершенство в искусстве рисунка заключается в проведении линий и контуров и в наложении света и тени для придания рельефности живописным произведениям для правильного понимания работы скульптора и для создания жилья удобного и прочного, здорового, веселого, соразмерного и обогащенного разнообразными архитектурными украшениями; и, помимо этого, он пожелал снабдить его истинной моральной философией, украшенной нежной поэзией, дабы мир избрал его единственным в своем роде зерцалом, любуясь его жизнью, его творениями, святостью его поведения и всеми его человеческими поступками и дабы и мы именовали его чем-то скорее небесным, чем земным. А так как Создатель видел, что в проявлении подобных занятий и в искусствах, единственных в своем роде, а именно в живописи, скульптуре и архитектуре, тосканские таланты всегда среди других особенно отличались возвышенностью и величием, поскольку они весьма прилежали к трудам и к занятиям во всех этих областях превыше всех остальных итальянских народов, он пожелал даровать ему родиной Флоренцию, из всех городов достойнейшую, с тем, чтобы она заслуженным образом достигла верха совершенства всех своих доблестей силами одного своего гражданина.
И вот в Казентино в 1474 году под знаменательными и счастливыми созвездиями родился младенец у почтенной и благородной жены Лодовико, сына Лионардо Буонарроти Симони, происходившего, как говорят, из благороднейшего и древнейшего семейства графов Каносса. У названного Лодовико, который в этом году был подестой поселков Кьюзи и Капрезе, аретинской епархии, что неподалеку от Сассо делла Верниа, где св. Франциск принял стигматы, родился, говорю я, сын в шестой день марта, в воскресенье, в восьмом часу ночи; назвал он его Микеланджело: в самом деле, долго не размышляя, а по внушению свыше, отец хотел этим показать, что существо это было небесным и божественным в большей степени, чем это бывает у смертных, как это и подтвердилось позднее в его гороскопе тем, что при его рождении Меркурий в сопровождении Венеры были благосклонно приняты в обители Юпитера, а это служило знаком того, что искусством руки его и таланта будут созданы творения чудесные и поразительные. Покончив со своими обязанностями по должности подесты, Лодовико воротился во Флоренцию; в селении же Сеттиньяно, что в трех милях от города, где у него был земельный участок, полученный по наследству (а место это скалистое и полное залежей мачиньо, постоянно обрабатываемых каменотесами и скульпторами, большинство которых оттуда и родом); в это селение Лодовико и отдал Микеланджело на кормление жене одного каменотеса. Недаром, беседуя как-то с Вазари, Микеланджело сказал в шутку: «Джордже, если и есть что хорошее в моем даровании, то это оттого, что я родился в разреженном воздухе аретинской вашей земли, да и резцы, и молот, которыми я делаю свои статуи, я извлек из молока моей кормилицы».
С течением времени много детей народилось у Лодовико, а так как жилось ему плохо и доходов у него было мало, то сыновей своих он пристраивал к шерстяному и шелковому цеху, а Микеланджело, когда он подрос, отдал в обучение грамоте учителю Франческо из Урбино. Но так как гением своим он был влеком к занятиям рисунком, он все свободное время тайком занимался рисованием, за что отец и старшие его ругали, а порой и бивали, считая, вероятно, занятие этим искусством, им незнакомым, делом низким и недостойным древнего их рода. Микеланджело подружился тогда с Франческо Граначчи, который был в том же юном возрасте, и устроился при Доменико дель Гирландайо для обучения искусству живописи: поэтому Граначчи, полюбивший Микеланджело и видя, насколько он способен к рисованию, что ни день снабжал его рисунками Гирландайо, который в то время почитался одним из лучших мастеров не только во Флоренции, но и по всей Италии. И вот, так как стремление к творчеству у Микеланджело с каждым днем все разрасталось, и Лодовико уже не мог препятствовать юноше заниматься рисованием, и так как иного выхода не было, то, чтобы извлечь из этого хоть какую-нибудь пользу и чтобы он этому искусству научился, Лодовико по совету друзей решил и его устроить к Доменико Гирландайо.
Когда Микеланджело начал обучаться искусству у Доменико, было ему четырнадцать лет. И хотя составивший его жизнеописание после 1550 года, когда я впервые написал настоящие жизнеописания, и утверждает, что иные, дела с ним не имевшие, наговорили о нем вещей, каких никогда и не было, пропустив многое, достойное быть отмеченным, и в частности касаясь этого времени, и называет Доменико завистником, никогда никакой пользы Микеланджело не принесшим, все это оказывается явной неправдой, в чем можно удостовериться по собственноручной записи Лодовико, отца Микеланджело, в книге Доменико, перешедшей ныне к его наследникам, а запись эта гласит так: «1488. Я, Лодовико, сын Лионардо ди Буонарроти, свидетельствую, что отдаю сына моего Микеланджело в обучение Доменико и Давиду, сыновьям Томмазо ди Куррадо, на три наступающих года, на следующих договорных условиях: что названный Микеланджело обязуется пробыть у вышеназванных указанное время, обучаясь живописи и занимаясь этим делом, а также всем, что вышеназванные ему прикажут; названные же Доменико и Давид обязуются выплатить ему в течение этих трех лет 24 полноценных флорина, а именно: за первый год 6 флоринов, за второй год 8 флоринов и за третий – 10 флоринов, в общей сумме, равной 96 лирам». И тут же под этой памяткой, или договором, также рукою Лодовико подписано: «Из них вышеназванный Микеланджело получил сего 16 апреля два золотых флорина золотом: я, его отец Лодовико, сын Лионардо, получил за его счет 12 лир и 12 сольдо». Эти расписки я списал с подлинной книги в доказательство того, что все, что я написал тогда и напишу теперь, есть истина; и я не знаю никого, кто бы с ним имел дела больше, чем я, и кто более был бы его другом и верным слугой, о чем может быть свидетелем всякий, его знавший, и не думаю, чтобы кто-либо мог предъявить большее число его писем, написанных собственноручно и с большей любовью, чем мог бы это сделать я. Отступление это я сделал из любви к истине, и его будет достаточно и для всего дальнейшего жизнеописания. А теперь возвращаемся к нашему повествованию.
Мастерство и личность Микеланджело выросли настолько, что Доменико давался диву, видя, как он и некоторые вещи делает не так, как полагалось бы юноше, ибо ему казалось, что Микеланджело побеждает не только других учеников, а их было у Гирландайо немало, но и нередко не уступает ему в вещах, созданных им как мастером. Так, когда один из юношей, обучавшихся у Доменико, срисовал пером у Гирландайо несколько фигур одетых женщин, Микеланджело выхватил у него этот лист и более толстым пером заново обвел фигуру одной из женщин линиями в той манере, которую он считал более совершенной, так что поражает не только различие обеих манер, но и мастерство и вкус столь смелого и дерзкого юноши, у которого хватило духу исправить работу своего учителя. Лист этот я храню теперь у себя как святыню, а получил я его от Граначчи и поместил его в Книгу вместе с другими рисунками, полученными мною от Микеланджело, а в 1550 году, когда Джорджо был в Риме, он показал этот рисунок Микеланджело, который узнал его и которому приятно было вновь посмотреть на него, а из скромности он сказал, что больше понимал в этом искусстве, когда был мальчиком, чем понимает теперь, когда стал стариком.
И вот случилось так, что, когда Доменико работал в большой капелле в Санта Мариа Новелла и как-то оттуда вышел, Микеланджело начал рисовать с натуры дощатые подмостья с несколькими столами, заставленными всеми принадлежностями искусства, а также и несколько юношей, там работавших. Недаром, когда Доменико возвратился и увидел рисунок Микеланджело, он заявил: «Ну, этот знает больше моего» – так он был поражен новой манерой и новым способом воспроизведения натуры, которым по приговору неба был одарен этот юноша в возрасте столь нежном, да и в самом деле рисунок был таков, что большего нельзя было бы и пожелать от умения художника, работавшего уже много лет. Дело в том, что в его натуре, воспитанной учением и искусством, было заключено все то, что ведомо и доступно творческой благодарности, которая в Микеланджело каждодневно приносила плоды все более божественные, что явно и стало обнаруживаться в копии, сделанной им с одного гравированного листа немца Мартина и принесшей ему широчайшую известность, а именно: когда попала в то время во Флоренцию одна из историй названного Мартина, гравированная на меди, на которой черти истязают св. Антония, Микеланджело срисовал ее пером, в манере дотоле неизвестной, и раскрасил ее красками, причем для того, чтобы воспроизвести причудливый вид некоторых чертей, он покупал рыб с чешуей необычной расцветки и таким образом обнаружил в этой работе такое мастерство, что приобрел и уважение, и известность. Он воспроизводил также собственноручные рисунки различных старых мастеров так схоже, что можно было ошибиться, ибо дымом и разными другими вещами он подкрашивал их, придавая старый вид, и пачкал так, что они действительно казались старыми и, при сравнении их с подлинными, один от других отличить было невозможно. И делал он это только для того, чтобы, возвратив воспроизведенные, заполучить подлинные рисунки, которые его восхищали совершенством искусства и которые он пытался превзойти своей работой, чем и приобрел широчайшую известность.
В те времена Лоренцо деи Медичи Великолепный держал у себя в саду, что на площади Сан Марко, скульптора Бертольдо не столько сторожем и хранителем многочисленных прекрасных древностей, собранных там и приобретенных им за большие деньги, сколько потому, что, желая во что бы то ни стало создать школу превосходных живописцев и скульпторов, он хотел, чтобы они имели своим руководителем и начальником названного Бертольдо, который был учеником Донато; и хотя он был уже стар настолько, что работать более не мог, был тем не менее учителем весьма опытным и обладавшим большой известностью не только потому, что тщательнейшим образом отчищал литье кафедр учителя своего Донато, но и за многочисленные собственные бронзовые литые работы с изображением сражений и других мелких вещей, в мастерском исполнении которых равного ему во всей Флоренции найти тогда было невозможно. Лоренцо же, питавшего величайшую любовь и к живописи, и к скульптуре, огорчало то, что не было в его время прославленных и знатных скульпторов, тогда как много было живописцев, обладавших величайшими достоинствами и славой, и он, как я уже говорил, решил основать школу. Вот почему и запросил он Доменико Гирландайо, нет ли в его боттеге юношей, имеющих склонность к скульптуре, и если есть, чтобы послал он их в его сад, где он хотел подучить их и воспитать так, чтобы они прославили и самих себя, и Лоренцо, и родной город. И вот Доменико направил к нему лучших своих учеников, и в числе их Микеланджело и Франческо Граначчи. Прибыв в сад, они увидели там, как молодой Торриджано де'Торриджани лепит по указаниям Бертольдо круглые статуи из глины. Микеланджело же, увидев это и соперничая с ним, также вылепил их несколько; с тех пор Лоренцо при виде столь отменного дарования всегда возлагал на него большие надежды; а тот, осмелевший, по прошествии всего нескольких дней начал воспроизводить в куске мрамора находившуюся там голову фавна, старого, дряхлого и морщинистого, с попорченным носом и смеющимся ртом; и Микеланджело, который до того никогда не касался ни мрамора, ни резцов, удалось воспроизвести ее так удачно, что сам Великолепный был этим поражен. Когда же он увидел, что, не считаясь с древним образцом и руководствуясь собственной фантазией, тот выдолбил у него рот так, что стали видны все зубы, и приделал язык, синьор этот, по обычаю своему мило подшучивая, сказал ему: «Тебе следовало бы только знать, что у стариков не все зубы бывают целы, сколько-нибудь их всегда не хватает». Микеланджело же в простоте его показалось, что синьор, которого он и боялся и любил, говорит с ним серьезно, и, не успел тот удалиться, как он тут же выломал один зуб, да еще пробил челюсть так, что казалось, будто зуб этот выпал, после чего с нетерпением начал ждать возвращения Великолепного, когда же тот воротился и увидел простоту и исполнительность Микеланджело, он не раз над этим потешался, рассказывая об этом друзьям своим, как о чуде. И решив оказывать Микеланджело помощь и взять его под свое покровительство, он послал за отцом его Лодовико и сообщил ему об этом, заявив, что будет относиться к Микеланджело как к родному сыну, на что тот охотно согласился. После чего Великолепный отвел ему помещение в собственном доме и приказал его обслуживать, поэтому тот за столом сидел всегда с его сыновьями и другими достойными и благородными лицами, состоявшими при Великолепном, который оказывал ему эту честь; и все это происходило в следующем году после его поступления к Доменико, когда Микеланджело шел пятнадцатый или шестнадцатый год, и провел он в этом доме четыре года, до кончины Великолепного Лоренцо, последовавшей в 1492 году. Все это время Микеланджело получал от синьора этого содержание для поддержки отца в размере пяти дукатов в месяц, и, чтобы доставить ему удовольствие, синьор подарил ему красный плащ, а отца устроил в таможне. Нужно сказать правду, что и все остальные молодые люди, обучавшиеся в саду, получали содержание, одни больше, другие меньше, по щедрости этого великолепного и благороднейшего гражданина и вознаграждались им в течение всей его жизни.
В это самое время по совету Полициано, человека учености необыкновенной, Микеланджело на куске мрамора, полученном от своего синьора, вырезал битву Геркулеса с кентаврами, столь прекрасную, что иной раз, разглядывая ее сейчас, можно принять ее за работу не юноши, а мастера высоко ценимого и испытанного в теории и практике этого искусства. Ныне она хранится на память о нем в доме его племянника Лионардо, как вещь редкостная, каковой она и является. Тот же Лионардо несколько лет тому назад хранил в своем доме на память о дяде барельеф с Богоматерью, высеченный из мрамора собственноручно самим Микеланджело, высотой чуть побольше локтя; в нем он, будучи в то время юношей и задумав воспроизвести манеру Донателло, сделал это настолько удачно, словно видишь руку того мастера, но и грации, и рисунка здесь еще больше. Работу эту Лионардо поднес затем герцогу Козимо Медичи, почитающему ее за вещь в своем роде единственную, ибо другого барельефа, кроме этой скульптуры, рукой Микеланджело выполнено не было.
Возвратимся, однако, к саду Великолепного Лоренцо: сад этот был переполнен древностями и весьма украшен превосходной живописью, и все это было собрано в этом месте для красоты, для изучения и для удовольствия, а ключи от него всегда хранил Микеланджело, намного превосходивший других заботливостью во всех своих действиях и всегда с живой настойчивостью проявлявший свою готовность. В течение нескольких месяцев срисовывал он в Кармине живопись Мазаччо, воспроизводя работы эти с таким толком, что поражались и художники, и не художники, и зависть к нему росла вместе с его известностью.
Рассказывают, что Торриджано, сдружившийся с ним, но побуждаемый завистью за то, что, как он видел, его и ценили выше, и стоил он больше него в искусстве, как бы шутя с такой силой ударил его кулаком по носу, что навсегда его отметил сломанным и безобразно раздавленным носом; за это Торриджано был из Флоренции изгнан, о чем было сказано в другом месте.
После смерти Лоренцо Великолепного Микеланджело воротился в отцовский дом, бесконечно огорченный кончиной такого человека, друга всяческих дарований. Именно тогда Микеланджело приобрел большую глыбу мрамора, в которой он высек Геркулеса высотой в четыре локтя, стоявшего много лет в палаццо Строцци и почитавшегося творением чудесным, а затем в год осады Геркулес этот был отослан Джованбаттистой делла Палла во Францию королю Франциску. Рассказывают, что Пьеро деи Медичи, долгое время пользовавшийся его услугами, когда стал наследником отца своего Лоренцо, часто посылал за Микеланджело при покупке древних камей и других резных работ, а однажды зимой, когда во Флоренции шел сильный снег, приказал ему вылепить у себя во дворе статую из снега, которая вышла прекраснейшей, и почитал Микеланджело за его достоинства в такой степени, что отец последнего, замечая, что сын его ценится наравне с вельможами, начал и одевать его пышнее, чем обычно.
Для церкви Санто Спирито в городе Флоренции он сделал деревянное распятие, поставленное и до сих пор стоящее над полукружием главного алтаря с согласия приора, который предоставлял ему помещение, где он, частенько вскрывая трупы для изучения анатомии, начал совершенствовать то великое искусство рисунка, которое он приобрел впоследствии.
За несколько недель до изгнания Медичи из Флоренции Микеланджело уехал в Болонью, а потом в Венецию, опасаясь, ввиду близости его к этому роду, как бы и с ним не произошло какой-либо неприятности, так как и он видел распущенность и дурное правление Пьеро деи Медичи. Не найдя занятия в Венеции, он возвратился в Болонью, где по оплошности с ним приключилась беда: при входе в ворота он не взял удостоверения на выход обратно, о чем для безопасности был издан мессером Джованни Бентивольи приказ, в котором говорилось, что иностранцы, не имеющие удостоверения, подвергаются штрафу в 50 болонских лир. На попавшего в такую неприятность Микеланджело, у которого заплатить было нечем, случайно обратил внимание мессер Франческо Альдовранди, один из шестнадцати правителей города. Когда ему рассказали, что случилось, он, сжалившись над Микеланджело, освободил его, и тот прожил у него более года. Как-то Альдовранди пошел с ним посмотреть на раку св. Доминика, над которой, как рассказывалось раньше, работали старые скульпторы: Джованни Пизано, а после него мастер Никола д'Арка. Там не хватало двух фигур высотой около локтя: ангела, несущего подсвечник, и св. Петрония, и Альдовранди задал вопрос, решится ли Микеланджело их сделать, на что тот ответил утвердительно. И действительно, получив мрамор, он выполнил их так, что стали они там фигурами самыми лучшими, за что мессер Франческо Альдовранди распорядился уплатить ему тридцать дукатов.
В Болонье Микеланджело провел немногим больше года и остался бы там и дольше: такова была любезность Альдовранди, который полюбил его и за рисование, и потому, что ему, как тосканцу, нравилось произношение Микеланджело и он с удовольствием слушал, как тот читал ему творения Данте, Петрарки, Боккаччо и других тосканских поэтов. Но так как Микеланджело понимал, что напрасно теряет время, он с удовольствием возвратился во Флоренцию, где для Лоренцо, сына Пьерфранческо деи Медичи, высек из мрамора св. Иоанна ребенком и тут же из другого куска мрамора спящего Купидона натуральной величины, и когда он был закончен, через Бальдассарре дель Миланезе его, как вещь красивую, показали Пьерфранческо, который с этим согласился и сказал Микеланджело: «Если ты его закопаешь в землю и потом отошлешь в Рим, подделав под старого, я уверен, что он сойдет там за древнего и ты выручишь за него гораздо больше, чем если продашь его здесь». Рассказывают, что Микеланджело и отделал его так, что он выглядел древним, чему дивиться нечего, ибо таланта у него хватило бы сделать и такое, и лучшее. Другие же уверяют, что Миланезе увез его в Рим и закопал его в одном из своих виноградников, а затем продал как древнего кардиналу св. Георгия за двести дукатов. Говорят и так, что продан он был кем-то, действовавшим за Миланезе и написавшим Пьерфранческо, обманывая кардинала, Пьерфранческо и Микеланджело, что Микеланджело следовало выдать тридцать скудо, так как больше за Купидона будто бы получено не было. Однако позднее от очевидцев было узнано, что Купидон был сделан во Флоренции, и кардинал, выяснив правду через своего посланца, добился того, что человек, действовавший за Миланезе, принял обратно Купидона, который попал затем в руки герцога Валентине, а тот подарил его маркизе мантуанской, отправившей его в свои владения, где он находится и ныне. Вся эта история послужила в укор кардиналу св. Георгия, который не оценил достоинство работы, а именно ее совершенства, ибо новые вещи таковы же, как и древние, только бы они были превосходными, и тот, кто гонится больше за названием, чем за качеством, проявляет этим лишь свое тщеславие, люди же такого рода, придающие больше значения видимости, чем сущности, встречаются во все времена.
Тем не менее благодаря истории этой известность Микеланджело стала такова, что он тут же был вызван в Рим, где по договоренности с кардиналом св. Георгия пробыл у него около года, но никаких заказов от него не получая, так как в этих искусствах тот смыслил мало. В это самое время подружился с Микеланджело цирюльник кардинала, который был и живописцем и весьма старательно писал темперой, рисовать же не умел. И Микеланджело сделал для него картон, изображавший св. Франциска, принимающего стигматы, а цирюльник выполнил его весьма старательно красками на доске небольших размеров, и живописная работа эта находится ныне в первой капелле церкви Сан Пьетро а Монторио, по левую руку от входа. Каковы были способности Микеланджело, отлично понял после этого мессер Якопо Галли, римский дворянин, человек одаренный, который заказал ему мраморного Купидона натуральных размеров, а затем статую Вакха высотой в десять пальм, держащего в правой руке чашу, а левой – тигровую шкуру и виноградную кисть, к которой тянется маленький сатир. По статуе этой можно понять, что ему хотелось добиться определенного сочетания дивных членов его тела, в особенности придавая им и юношескую гибкость, свойственную мужчине, и женскую мясистость и округлость: приходится дивиться тому, что он именно в статуях показал свое превосходство над всеми новыми мастерами, работавшими до него.
Таким образом, за это пребывание свое в Риме он достиг, учась искусству, такого, что невероятным казались и возвышенные его мысли, и трудная манера, применявшаяся им с легкостью легчайшей, отпугивая как тех, кому непривычны были подобные вещи, так и тех, кто привык к хорошим вещам; ведь все то, что было создано раньше, казалось ничтожеством по сравнению с его вещами. Вещи эти возбудили желание у кардинала св. Дионисия, именуемого французским кардиналом Руанским, оставить через посредство художника столь редкостного достойную о себе память в городе, столь знаменитом, и он заказал ему мраморную, целиком круглую скульптуру с оплакиванием Христа, которая по ее завершении была помещена в соборе Св. Петра в капеллу Девы Марии, целительницы лихорадки, там, где раньше был храм Марса. Пусть никогда и в голову не приходит любому скульптору, будь он художником редкостным, мысль о том, что и он смог бы что-нибудь добавить к такому рисунку и к такой грации и трудами своими мог когда-нибудь достичь такой тонкости и чистоты и подрезать мрамор с таким искусством, какое в этой вещи проявил Микеланджело, ибо в ней обнаруживается вся сила и все возможности, заложенные в искусстве. Среди красот здесь, помимо божественно выполненных одеяний, привлекает внимание усопший Христос; и пусть и в голову не приходит кому-либо увидеть обнаженное тело, выполненное столь искусно, с такими прекрасными членами, с отделанными так тонко мышцами, сосудами, жилами, одевающими его остов, или увидеть мертвеца, более похожего на мертвеца, чем этот мертвец. Здесь и нежнейшее выражение лица, и некая согласованность в привязке и сопряжении рук, и в соединении туловища и ног, и такая обработка кровеносных сосудов, что поистине повергаешься в изумление, как могла рука художника в кратчайшее время так божественно и безукоризненно сотворить столь дивную вещь; и, уж конечно, чудо, что камень, лишенный первоначально всякой формы, можно было когда-либо довести до того совершенства, которое и природа с трудом придает плоти. В это творение Микеланджело вложил столько любви и трудов, что только на нем (чего он в других своих работах больше не делал) написал он свое имя вдоль пояса, стягивающего грудь Богоматери; вышло же это так, что однажды Микеланджело, подойдя к тому месту, где помещена работа, увидел там большое число приезжих из Ломбардии, весьма ее восхвалявших, и когда один из них обратился к другому с вопросом, кто же это сделал, тот ответил: «Наш миланец Гоббо». Микеланджело промолчал, и ему показалось по меньшей мере странным, что его труды приписываются другому. Однажды ночью он заперся там со светильником, прихватив с собой резцы, и вырезал на скульптуре свое имя. И поистине она такова, как сказал о ней один прекраснейший поэт, как бы обращаясь к настоящей и живой фигуре:
Достоинство и красота
И скорбь: над мрамором сим полно вам стенать!
Он мертв, пожив, и снятого с креста
Остерегитесь песнями поднять,
Дабы до времени из мертвых не воззвать
Того, кто скорбь приял один
За всех, кто есть наш господин,
Тебе – отец, супруг и сын теперь,
О ты, ему жена, и мать, и дщерь.
И недаром приобрел он себе славу величайшую, и хотя некоторые, как-никак, но все же невежественные, люди говорят, что Богоматерь у него чересчур молода, но разве не замечали они или не знают того, что ничем не опороченные девственники долго удерживают и сохраняют выражение лица ничем не искаженным, у отягченных же скорбью, каким был Христос, наблюдается обратное? Почему такое произведение и принесло его таланту чести и славы больше, чем все прежние, взятые вместе.
Кое-кто из друзей его написал ему из Флоренции, чтобы он приезжал туда, ибо не следует упускать мрамор, лежавший испорченным в попечительстве собора. Мрамор этот Пьер Содерини, назначенный тогда пожизненным гонфалоньером города, неоднократно предлагал переправить Леонардо да Винчи, а теперь собирался передать его мастеру Андреа Контуччи из Монте Сансовино, отменному скульптору, его добивавшемуся; пытался получить его по приезде во Флоренцию и Микеланджело, которому он приглянулся еще много лет тому назад, хотя и трудно было высечь из него цельную статую без добавления кусков, и ни у кого, кроме него, не хватало духу отделать его без таких добавлений. Из мрамора этого размером в девять локтей начал, на беду, высекать гиганта некий мастер Симоне из Фьезоле и сделал это настолько плохо, что продырявил его между ногами и все испортил и изуродовал так, что ведавшие работой попечители Санта Мариа дель Фьоре, не думая о том, как ее завершить, махнули на все рукой, и так она многие годы стояла и стоять продолжала. Микеланджело обмерил ее заново, поразмыслив о том, какую толковую статую можно было бы из этой глыбы высечь, и, приноровившись к той позе, какую ей придал испортивший ее мастер Симоне, решил выпросить ее у попечителей и Содерини, которые и отдали ее ему как вещь ненужную, считая, что все, что бы он с ней ни сделал, будет лучше того состояния, в котором она тогда находилась, ибо, разбей ее на куски или оставь ее в испорченном виде, толку от нее для постройки все равно никакого не будет. Поэтому Микеланджело вылепил модель из воска, задумав изобразить в ней в качестве дворцовой эмблемы юного Давида с пращой в руке, с тем чтобы, подобно тому как Давид защитил свой народ и справедливо им управлял, и правители этого города мужественно его защищали и справедливо им управляли. К работе он приступил в попечительстве Санта Мариа дель Фьоре, где отгородил у стены место вокруг глыбы и, работая над ней непрестанно так, что никто ее не видел, он довел мрамор до последнего совершенства.
Мрамор был уже испорчен и изуродован мастером Симоне, и в некоторых местах его не хватало, чтобы Микеланджело мог сделать то, что он задумал; на поверхности мрамора ему пришлось оставить первые нарезы мастера Симоне, так что и теперь некоторые из них видны, и, конечно, настоящее чудо совершил Микеланджело, оживив то, что было мертвым.
По завершении своем статуя оказалась такой огромной, что начались споры, как доставить ее на площадь Синьории. И тут Джулиано да Сангалло и брат его Антонио устроили очень прочную деревянную башню, к которой подвесили статую на канатах так, чтобы при толчках она не повреждалась, а равномерно покачивалась; тащили ее на канатах при помощи лебедок по гладким бревнам и, передвигая, поставили на место. Петля из каната, на котором висела статуя, очень легко скользила и стягивалась под давлением тяжести: придумано это было так прекрасно и остроумно, что я собственноручный рисунок храню в нашей Книге, как нечто для связывания тяжестей чудесное, надежное и прочное.
Между тем случилось так, что Пьер Содерини, взглянув вверх на статую, очень ему понравившуюся, сказал Микеланджело, который в это время ее кое-где отделывал, что нос, по его мнению, у нее велик: Микеланджело, подметив, что гонфалоньер стоял под самым гигантом и точка зрения его обманывала, влез, чтобы угодить ему, на подмостья у плечей статуи и, поддев резцом, который он держал в левой руке, немного мраморной пыли с площадки подмостьев, начал постепенно осыпать пыль вниз, работая будто другими резцами, но к носу не прикасаясь. Затем, нагнувшись к гонфалоньеру, который следил за ним, он сказал: «А ну-ка, посмотрите на него теперь». – «Теперь мне нравится больше, – сказал гонфалоньер, – вы его оживили». Микеланджело спустился тогда с мостков, про себя над ним подсмеиваясь и сожалея о людях, которые, желая выказать себя знатоками, говорят такое, чего сами не понимают. Когда же статую установили окончательно, он раскрыл ее, и поистине творение это затмило все известные статуи, новые и древние, будь то греческие или римские; и можно сказать, что ни римский Марфорий, ни Тибр или Нил Бельведерские, ни гиганты с Монтекавалло ни в каком отношении сравниться с ней не могут: с такой соразмерностью и красотой, с такой добротностью закончил ее Микеланджело. Ибо и очертания ног у нее в высшей степени прекрасны, а сопряжение и стройность бедер божественны, и позы столь изящной не видано было никогда, ни грации, ни с чем не сравнимой, ни рук, ни ног, ни головы, которые настолько отвечали бы каждому члену этого тела своей добротностью, своей искусностью и своей согласованностью, не говоря уже об их рисунке. И, право, тому, кто это видел, ни на какую скульптуру любого мастера наших или других времен и смотреть не стоит.
Микеланджело было выдано за нее щедротами Пьера Содерини четыреста скудо, а поставлена она была в 1504 году; а так как через нее он прославился как скульптор, он выполнил для упоминавшегося гонфалоньера прекраснейшего бронзового Давида, которого тот отослал во Францию. Тогда же начал он, но не закончил, два мраморных тондо, одно для Таддео Таддеи, то, что и ныне находится в его доме, а другое было начато им для Бартоломео Питти, то, которое фра Миньято Питти из Монте Оливето, человек понимающий и на редкость разбирающийся в космографии и многих других науках и в особенности в живописи, подарил Луиджи Гвиччардини, с которым был в большой дружбе; работы эти были признаны превосходными и дивными. В это же время начал он мраморную статую св. Матфея для попечительства Санта Мариа дель Фьоре; незаконченная эта статуя свидетельствует о совершенном его мастерстве и поучает других скульпторов, как надлежит высекать статуи из мрамора, не уродуя их, чтобы всегда, снимая мрамор, можно было что-либо выгадать и чтобы можно было в случае надобности, как это бывает, то или другое убрать или изменить.
А кроме того, он сделал бронзовое тондо с Богоматерью, отлитое им по заказу фламандских купцов Москерони, особ очень знатных в своих краях, с тем чтобы они, уплатив ему за него сто скудо, могли отослать это тондо во Фландрию. Захотелось и его другу Аньоло Дони, флорентийскому гражданину, сильно увлекавшемуся собиранием красивых вещей, как старых, так и новых художников, получить какую-либо работу Микеланджело; поэтому тот начал писать для него тондо с Богоматерью, которая держит на руках и протягивает, стоя на обоих коленях, младенца принимающему его Иосифу; здесь Микеланджело выражает в повороте головы матери Христовой и в глазах ее, устремленных на высшую красу сына, свое чудесное удовлетворение и волнение, испытываемое ею, когда она сообщает это святейшему старцу, как это отличнейшим образом видно по его лицу, даже если особенно его не разглядывать. Но так как этого Микеланджело было недостаточно, чтобы показать в еще большей степени величие своего искусства, он на фоне этого произведения написал много обнаженных тел – опирающихся, стоящих прямо и сидящих, и всю эту вещь он отделал так тщательно и так чисто, что из всех его живописных работ на дереве, а их немного, она справедливо считается самой законченной и самой прекрасной. Закончив ее, Микеланджело отослал ее в завернутом виде на дом к Аньоло с посыльным, приложив к ней доверенность с просьбой уплатить ему за нее 70 дукатов. Аньоло, который был человеком расчетливым, показалось странным тратить такие деньги на картину, хотя и понимал, что она стоит еще дороже; и он заявил посыльному, что достаточно будет и сорока, каковые ему и передал. Но Микеланджело прислал их обратно, наказав посыльному назначить 100 дукатов или принести картину обратно. На что Аньоло, которому работа понравилась, заявил: «Дай ему семьдесят». Но он и этим остался недоволен: более того, из-за малого доверия Аньоло он потребовал с него вдвое против того, что просил вначале, почему и пришлось Аньоло, которому хотелось получить картину, послать ему 140 скудо.
Случилось так, что, когда Леонардо да Винчи, живописец редчайший, расписывал, как рассказано в его жизнеописании, Большую залу Совета, Пьер Содерини, занимавший в то время должность гонфалоньера, видя великий талант Микеланджело, заказал ему расписать другую часть той же залы, что и стало причиной его соревнования с Леонардо, в которое он вступил, взявшись за роспись другой стены на тему пизанской войны. Для этого Микеланджело получил помещение в больнице красильщиков при Сант Онофрио и принялся там за огромнейший картон, потребовав, однако, чтобы никто его не видел. Он заполнил его обнаженными телами, купающимися в жаркий день в реке Арно, но в это мгновение раздается в лагере боевая тревога, извещающая о вражеском нападении; и в то время как солдаты вылезают из воды, чтобы одеться, божественной рукой Микеланджело было показано, как одни вооружаются, чтобы помочь товарищам, другие застегивают свой панцирь, многие хватаются за оружие и бесчисленное множество остальных, вскочив на коней, уже вступает в бой. Среди других фигур был там один старик, надевший на голову венок из плюща; он сел, чтобы натянуть штаны, а они не лезут, так как ноги у него после купания мокрые, и, слыша шум битвы и крики и грохот барабанов, он второпях с трудом натянул одну штанину; и помимо того что видны все мышцы и жилы его фигуры, он скривил рот так, что было ясно, как он страдает и как он весь напряжен до кончиков пальцев на ногах. Там были изображены и барабанщики, и люди, запутавшиеся в одежде и голыми бегущие в сражение; и можно было увидеть там самые необыкновенные положения: кто стоит, кто упал на колени или согнулся, или падает и как бы повис в воздухе в труднейшем ракурсе. Там же были многие фигуры, объединенные в группы и набросанные различными манерами: одна очерченная углем, другая нарисованная штрихами, а иная оттушеванная и высветленная белилами – так хотелось ему показать все, что он умел в этом искусстве. Потому-то поражались и изумлялись художники, видя, какого предела достигло искусство, показанное им Микеланджело на этом листе. И вот, посмотрев на фигуры столь божественные, некоторые, их видевшие, говорят, что из всего сделанного им и другими ничего подобного до сих пор они не видели и что ни один другой талант до такой божественности в искусстве никогда подняться не сможет. И поверить этому безусловно можно, ибо после того как картон был закончен и перенесен в Папскую залу с великим шумом в цехе художников и к величайшей славе Микеланджело, все изучавшие этот картон и с него срисовывавшие, как это в течение многих лет делали во Флоренции приезжие и местные мастера, достигли, как мы увидим, в своем искусстве превосходства; ведь на этом картоне учился Аристотель да Сангалло, друг Микеланджело, Ридольфо Гирландайо, Рафаэль Санцио из Урбино, Франческо Граначчо, Баччо Бандинелли и Алонсо Беругетта-испанец, а позднее Андреа дель Сарто, Франчабиджо, Якопо Сансовино, Россо, Матурино, Лоренцетто и Триболо, тогда еще совсем юный, Якопо да Понтормо и Перино дель Вага; и все это – лучшие флорентийские мастера.
А так как картон этот стал школой художников, его перенесли в палаццо Медичи, в большую верхнюю залу, причем его отдали в руки художников, чересчур на них положившись, вследствие чего во время болезни герцога Джулиано, когда за картоном никакого присмотра не было, его разорвали, как об этом рассказано в другом месте, на отдельные куски, которые были рассеяны по разным местностям, о чем свидетельствуют некоторые его обрывки, которые и теперь можно увидеть в Мантуе в доме мессера Уберто Строцци, мантуанского дворянина, хранящего их с большим почтением. И достаточно на них взглянуть, чтобы убедиться без сомнения в том, что творение это скорее божественное, чем человеческое.
После Оплакивания Христа, флорентийского гиганта и картона слава Микеланджело стала такова, что в 1503 году, когда после смерти папы Александра VI был избран Юлий II (а Микеланджело тогда было около двадцати девяти лет), он с большим почтением был приглашен Юлием II для работы над его гробницей, причем подорожных через папских казначеев ему было выплачено сто скудо. Прибыв в Рим, он провел там много месяцев, прежде чем его заставили за что-либо взяться. В конце концов он решился представить рисунок, сделанный им для гробницы и ставший лучшим свидетельством его способностей, ибо красотой, величавостью, роскошью и обилием статуй она превосходила любую древнюю и императорскую гробницу. Посему, воодушевленный этим, папа Юлий решил заново перестроить церковь Св. Петра в Риме, чтобы, как об этом рассказано в другом месте, поместить в нее и гробницу.
Так, Микеланджело принялся за работу восторженно и поначалу отправился в Каррару с двумя подмастерьями, чтобы раздобыть там весь требуемый мрамор, в счет чего он получил во Флоренции от Аламанно Сальвиати тысячу скудо. Там в горах он прожил семь месяцев без каких-либо других денег или пособий, и в каменоломнях, вдохновляемый этой массой камня, он замышлял создать много больших статуй, дабы оставить о себе память, как это раньше делали древние. После чего, отобрав нужное количество мрамора, он отправил его к морю, откуда он был доставлен в Рим, где им завалили полплощади Св. Петра вокруг церкви Санта Катарина, между церковью и проходом к замку. Там Микеланджело устроил себе и помещение для работы над статуями и другими частями гробницы, а для того чтобы папа удобнее мог подходить и смотреть на его работу, он приказал перекинуть подъемный мост от прохода к мастерской и этим приобрел благосклонность папы: со временем милости эти доставили ему большие неприятности и преследования и породили среди папских художников большую зависть.
Для гробницы этой Микеланджело при жизни Юлия и после его смерти закончил четыре статуи и восемь оставил незаконченными, о чем будет рассказано на своем месте. А так как гробница эта была задумана с огромнейшей изобретательностью, мы здесь ниже изложим тот порядок, которого он придерживался. Так, для того, чтобы придать ей наибольшее величие, он задумал ее свободно стоящей, чтобы ее можно было видеть со всех четырех сторон, из которых две были длиной в восемнадцать локтей, а другие две – в двенадцать, так что пропорция составляла полтора квадрата. Снаружи кругом шел ряд ниш, между которыми были размещены гермы, одетые в верхней их половине и несущие головами первый карниз, и к каждой герме в необыкновенном и причудливом положении был привязан обнаженный пленник, опиравшийся ногами на выступ цоколя. Пленники эти означали области, покоренные этим папой и подчиненные апостольской церкви; другие же разнообразные статуи, также связанные, олицетворяли все добродетели и хитроумные искусства, изображенные там потому, что и они были подчинены смерти и не в меньшей степени, чем сам первосвященник, который столь успешно им покровительствовал. По углам первого карниза стояли четыре большие фигуры: жизни деятельной и созерцательной, а также св. Павла и св. Моисея. Над карнизом гробница поднималась ступенями, сужаясь до бронзового фриза, покрытого историями и окруженного и другими фигурами, путтами и украшениями. Наконец, на самом верху были еще две статуи: Неба, несущего, улыбаясь, на своих плечах гроб, и Кибелы, богини земли, как бы горюющей о том, что после кончины такого мужа мир лишился всех добродетелей. Небо же, казалось, улыбалось потому, что душа папы вознеслась к небесной славе. Вход и выход был устроен с торцов прямоугольной гробницы через ниши, внутри же было нечто вроде храма овальной формы, в середине которого стоял саркофаг, предназначенный для тела папы. Всего же в работу эту входило сорок мраморных статуй, не считая разных историй, путтов и украшений всей порезки карнизов и других архитектурных обломов. И для ускорения дела Микеланджело распорядился отвезти часть мраморов во Флоренцию, где он намеревался иной раз проводить лето, чтобы избежать вредного воздуха Рима. Там он из нескольких кусков целиком выполнил одну сторону гробницы, а в Риме собственноручно закончил двух пленников, творение поистине божественное, а также и другие статуи, лучше которых и не увидишь и которые так и не пошли в дело; названных же пленников он подарил синьору Руберто Строцци, в доме которого лежал больным, позднее же они были посланы в дар королю Франциску и находятся ныне в Экуане, во Франции. Он начал, кроме того, восемь статуй в Риме и пять во Флоренции и закончил Победу, попирающую пленного, все они находятся теперь у герцога Козимо, подаренные Лионардо, племянником Микеланджело, Его Превосходительству, который поместил Победу в расписанную Вазари большую залу своего дворца. Он закончил и мраморного Моисея высотой в пять локтей, и со статуей этой не может по красоте сравниться ни одна из современных работ, впрочем, то же можно сказать и о работах древних: в самом деле, он сидит в величественнейшей позе, опираясь локтем на скрижали, которые придерживает одной рукой, другой же он держит ниспадающую прядями длинную бороду, выполненную из мрамора так, что волоски, представляющие собою трудность в скульптуре, тончайшим образом изображены пушистыми, мягкими и расчесанными, будто совершилось невозможное и резец стал кистью. И помимо красоты лица, имеющего поистине вид настоящего святого и грознейшего владыки, хочется, когда на него смотришь, скрыть покрывалом это лицо, столь сияющее и столь лучезарное для всякого, кто на него смотрит; так прекрасно передал Микеланджело в мраморе всю божественность, вложенную Господом в его святейший лик; не говоря уж о том, как прорезана и отделана одежда, ложащаяся красивейшими складками, и до какой красоты и до какого совершенства доведены руки с мышцами и кисти рук с их костями и жилами и точно так же ноги, колени и стопы в особой обуви; да и настолько закончено каждое его творение, что Моисея ныне еще больше, чем раньше, можно назвать другом Господа, пожелавшего руками Микеланджело задолго до того, чем у других, воссоздать его тело и подготовить его к воскресению из мертвых. И пусть евреи, мужчины и женщины, как они это делают каждую субботу, собираются стаями, словно скворцы, и отправляются к нему, чтобы увидеть его и поклониться, ибо поклонятся они творению не человеческому, а божественному.
Так, наконец, дошел он до завершения и конца своего творения, одна из четырех частей которого, притом наименьшая, была поставлена позднее в церковь Сан Пьетро ин Винколи. Рассказывают, что, когда Микеланджело над ней еще работал, прибыл водой остальной мрамор, предназначавшийся для названной гробницы и остававшийся в Карраре, и был перевезен к остальному на площадь Св. Петра; а так как доставку следовало оплатить, Микеланджело отправился, как обычно, к папе; но так как в тот день Его Святейшество был занят важными делами, относившимися к событиям в Болонье, он воротился домой и расплатился за мрамор собственными деньгами, полагая, что Его Святейшество тотчас же даст на этот счет распоряжение. На следующий день он опять пошел поговорить с папой, но, когда его не впустили, так как привратник заявил, что ему следует запастись терпением, ибо ему приказано не впускать его, один епископ сказал привратнику: «Да ты разве не знаешь этого человека?» – «Слишком хорошо его знаю, – ответил привратник, – но я здесь для того, чтобы исполнять приказания начальства и папы». Микеланджело этот поступок не понравился, и так как ему показалось, что это было совсем не похоже на то, как с ним бывало раньше, он, разгневанный, заявил папским привратникам, что если он впредь понадобится Его Святейшеству, пусть ему скажут, что он куда-то уехал. Вернувшись же в свою мастерскую, он в два часа ночи сел на почтовых, приказав двум своим слугам распродать все домашние вещи евреям и затем следовать за ним во Флоренцию, куда он уезжает. Прибыв в Поджибонси, флорентийской области, он остановился, почувствовав себя в безопасности. Но не прошло много времени, как прибыло туда пять посыльных с письмами от папы, чтобы вернуть его обратно. Но, несмотря на просьбы и на письмо, в котором ему было приказано под страхом немилости возвратиться в Рим, он ничего не хотел и слышать. Лишь уступая просьбам посыльных, он написал наконец несколько слов в ответ Его Святейшеству, что он просит прощения, но возвратиться к нему не собирается, ибо он выгнал его как какого-нибудь бродягу, чего он за верную службу не заслуживал, и что папа может где-нибудь еще поискать для себя слугу.
По приезде во Флоренцию Микеланджело за трехмесячное там пребывание закончил картон для Большой залы, ибо гонфалоньер Пьер Содерини желал, чтобы работа эта была осуществлена. За это время Синьория получила три бреве с требованием выслать Микеланджело в Рим, он же, видя, в какую ярость пришел папа, опасаясь его, собирался, как говорят, уехать при содействии каких-то монахов-францисканцев в Константинополь на службу к Турку, которому желательно было использовать его при строительстве моста из Константинополя в Перу. Однако Пьер Содерини уговорил его явиться к папе (хотя ему этого не хотелось) в качестве должностного лица, обезопасив его титулом флорентийского посла, и в конце концов направил его к своему брату кардиналу Содерини, дабы тот представил его папе и отослал его в Болонью, куда уже прибыл тогда из Рима Его Святейшество.
Об отъезде его из Рима рассказывают и по-другому: что папа разгневался на Микеланджело за то, что тот не позволял никому смотреть на свои работы, и подозревая своих людей, он не раз предполагал, что папа видел то, что он сделал, приходя переодетым в некоторых случаях, когда Микеланджело не было дома или когда он работал, и будто поэтому папа подкупил однажды его подмастерьев, чтобы они впустили его посмотреть капеллу дяди его Сикста, которую он заказал ему расписать, как об этом будет рассказано дальше, а Микеланджело там спрятался, так как подозревал предательство подмастерьев, и начал швырять досками в вошедшего в капеллу папу, будто не зная, кто это, так что пришлось разъяренному папе удалиться. Словом, так или иначе, папу он разгневал, а потом испугался, что он не затребует его обратно.
Итак, прибыл он в Болонью и не успел переобуться, как был папскими придворными вызван к Его Святейшеству, пребывавшему во Дворце Шестнадцати. Его сопровождал один из епископов кардинала Содерини, ибо сам кардинал был болен и пойти туда не мог. Когда они предстали перед папой, Микеланджело пал на колени, Его же Святейшество взглянул на него искоса, будто гневно, и сказал ему: «Вместо того чтобы тебе к нам прийти, ты ждал, когда мы придем к тебе?» – желая сказать этим, что Болонья ближе к Флоренции, чем Рим. Воздев руки, Микеланджело громким голосом смиренно попросил у него прощения за то, что поступил он так, вспылив, не будучи в состоянии перенести, что его попросту выгнали вон, и, признавая свою вину, он еще раз попросил прощения. Епископ, представивший Микеланджело папе, в его оправдание говорил Его Святейшеству, что люди подобного рода невежественны и помимо своего искусства ни в чем другом ничего не смыслят, и чтобы поэтому он соблаговолил его простить. Папа рассердился и дубинкой, которую он держал, ударил епископа с такими словами: «Это ты невежда, что говоришь о нем гнусности, каких мы ему не говорим». После чего привратники вытолкали епископа вон, папа же, излив на него свой гнев, благословил Микеланджело, которого дарами и посулами задержали в Болонье, пока Его Святейшество не заказал ему бронзовую статую в обличье папы Юлия, высотой в пять локтей, и тот проявил прекраснейшее свое искусство в торжественной и величественной позе, в богатом и пышном облачении и в смелом, сильном, живом и грозном выражении лица. Статуя эта была поставлена в нишу над дверьми Сан Петронио. Рассказывают, что, когда Микеланджело над ней работал, туда явился Франча, превосходнейший ювелир и живописец, пожелавший на нее взглянуть, ибо он уже столько слышал похвального и о нем, и о его творениях, но ни одного из них еще не видел. И вот через посланных им посредников он получил разрешение взглянуть на статую и, увидев мастерство Микеланджело, пришел в изумление. Когда же был задан ему вопрос, что он думает об этой фигуре, Франча ответил, что литье в ней прекраснейшее и материал прекрасный. А так как Микеланджело показалось, что он похвалил скорее его бронзу, чем его мастерство, он заявил: «Значит, я стольким же обязан папе Юлию, от которого я получил ее, скольким вы москательщикам, от которых вы получаете краски для живописи», – и в гневе обозвал его дураком в присутствии благородных господ. А когда по тому же случаю к нему пришел сын Франчи и кто-то назвал его очень красивым юношей, Микеланджело, обратившись к нему, сказал: «Твой отец изготовляет живые фигуры более красивыми, чем написанные». Кто-то, не знаю, кто именно из упомянутых благородных господ, спросил Микеланджело, что, по его мнению, дороже: статуя этого папы или пара волов? На что тот ответил: «Это смотря какие волы: если речь идет о здешних болонских – о! – тогда они, конечно, дешевле наших флорентийских».
Эту статую Микеланджело вылепил из глины еще до того, как папа уехал из Болоньи в Рим; когда же Его Святейшество пришел взглянуть на нее, он еще не знал, что вложить ей в левую руку; а так как правая была гордо поднята, папа спросил, что же он делает: благословляет или проклинает? Микеланджело ответил, что он увещевает болонский народ вести себя благоразумно. Когда же он спросил, как полагает Его Святейшество, не вложить ли ему в левую руку книгу, тот ответил: «Дай мне в руку меч – я человек неученый». Папа оставил в банке мессера Антонмариа да Линьяно тысячу скудо на завершение статуи, и по прошествии шестнадцати месяцев, которые Микеланджело над ней промучился, она была помещена во фронтоне переднего фасада церкви Сан Петронио, как об этом уже говорилось. Статую эту Бентиволье расплавили, а бронзу продали герцогу Альфонсо Феррарскому, который вылил из нее пушку и назвал ее Юлией; сохранилась только голова, которая находится в гардеробной герцога.
Когда папа возвратился в Рим, а Микеланджело заканчивал эту статую, в его отсутствие Браманте, который был другом и родственником Рафаэля Урбинского и ввиду этого обстоятельства не очень-то дружил с Микеланджело, видя, что папа предпочитает и возвеличивает его скульптурные произведения, задумал охладить его к ним, чтобы по возвращении Микеланджело Его Святейшество не настаивал на завершении своей гробницы, говоря, что строить гробницу при жизни – дурная примета и значит накликать на себя смерть, и уговаривал его по возвращении Микеланджело поручить ему в память Сикста, дяди Его Святейшества, расписать потолок капеллы, выстроенной во дворце Сикстом. Браманте и другие соперники Микеланджело думали, что таким образом они отвлекут его от скульптуры, в которой папа видел его совершенство, и доведут его до отчаяния, полагая, что, вынужденный писать красками, но не имея опыта в работе фреской, он создаст произведение менее похвальное, которое получится хуже, чем у Рафаэля; и даже если у него случайно что-либо и выйдет, они любым способом заставят его рассориться с папой, что так или иначе приведет к осуществлению их намерения от него отделаться. И вот по возвращении Микеланджело в Рим папа уже решил не завершать пока своей гробницы и предложил ему расписать потолок капеллы. А Микеланджело хотелось закончить гробницу, и работа над потолком капеллы казалась ему большой и трудной: имея в виду малый свой опыт в живописи красками, он пытался всякими путями свалить с себя эту тяжесть, выдвигая для этого вместо себя Рафаэля. Но чем больше он отказывался, тем сильнее разгоралась прихоть папы, который шел напролом в своих затеях, а к тому же его снова начали подстрекать соперники Микеланджело, и в особенности Браманте, так что папа, который был вспыльчив, уже готов был рассориться с Микеланджело.
Тогда, видя, что Его Святейшество упорствует, Микеланджело решил, наконец, за это взяться; Браманте, получив распоряжение от папы устроить подмостья для росписи, целиком подвесил их на канатах, продырявив весь свод. Когда Микеланджело это увидел, он спросил Браманте, как же заделать дыры после того, как роспись будет закончена. Тот же на это ответил, что подумает об этом после, по-другому же сделать нельзя. Микеланджело понял, что Браманте либо небольшой мастер своего дела, либо небольшой его друг, и отправился к папе, заявив ему, что такие подмостья не годятся, и Браманте построить их не сумел, на что папа в присутствии Браманте сказал ему, чтобы он делал их по-своему. И вот Микеланджело распорядился устроить их на козлах, чтобы они не касались стен, и это был способ, которому он впоследствии научил и Браманте, и других для укрепления сводов и для создания многих хороших работ, причем переделывавшему их бедному плотнику он подарил столько канатов, что тот, продав их, обеспечил одной из своих дочерей приданое, подаренное ей таким образом Микеланджело.
После этого он приступил к изготовлению картонов для названного потолка, причем папа разрешил захватить и стены, расписанные уже разными мастерами до него при Сиксте, и назначил за всю эту работу вознаграждение в сумме пятнадцати тысяч дукатов, цену, которую установил Джулиано де Сангалло. И вот ввиду огромности работы Микеланджело был вынужден решиться на то, чтобы обратиться за чужой помощью и, вызвав из Флоренции людей, он решил доказать этим произведением, что писавшие до него должны будут волей-неволей оказаться у него в плену, и показать, кроме того, современным ему художникам, как следует рисовать и писать красками. И, поскольку само величие этой задачи толкнуло его к тому, чтобы подняться в своей славе так высоко на благо искусства, он начал и закончил картоны; а когда же собрался уже приступить к фрескам, чего никогда еще не делал, из Флоренции в Рим приехали его друзья-живописцы, чтобы помочь ему и показать, как они работают фреской, ибо некоторые из них этим уже занимались. В их числе были Граначчо, Джулиано Буджардини, Якопо ди Сандро, Индако – старший, Аньоло ди Доннино и Аристотель. В начале работ он предложил им написать что-нибудь в качестве образца. Увидев же, как далеки их старания от его желаний и не получив никакого удовлетворения, как-то утром он решился сбить все ими написанное и, запершись в капелле, перестал их впускать туда и принимать у себя дома. А так как шутки эти, по их мнению, продолжались слишком долго, они смирились и с позором воротились во Флоренцию.
Так Микеланджело порешил выполнить всю работу один и закончил ее в кратчайший срок, приложив все старания и все умение и не показываясь никому, чтобы не возникло повода, вынуждающего его показывать ее кому-нибудь другому: тем более в сердцах людей с каждым днем росло желание ее увидеть.
Папа Юлий очень любил смотреть на свои предприятия, тем более хотелось ему взглянуть на то, которое от него прятали. И вот однажды он отправился посмотреть на него, но ему не отперли, сказав, что Микеланджело не хотел его показывать. Из-за этого, как уже говорилось, якобы и возникло то недоразумение, ради которого ему, не пожелавшему показать папе свое произведение, пришлось покинуть Рим: согласно же тому, что я узнал от него самого, чтобы выяснить это сомнение, когда он закончил треть работы, она начала покрываться плесенью, когда подул северный ветер и наступила зимняя погода. Происходило же это потому, что римская известь, которую для белизны изготовляют из травертина, сохнет медленно и ее смешивают с пуццоланой бурого цвета, так что смесь получается темной, и когда она жидка и водяниста и стена ею сильно пропитывается, она, просыхая, часто расцветает, то есть во многих местах цветущая жидкость выделяет соль, которая, однако, на воздухе с течением времени улетучивается. Это обстоятельство привело Микеланджело в отчаяние, и ему не хотелось продолжать; а когда он принес свои извинения папе за то, что работа ему не удавалась, Его Святейшество отправил туда Джулиано да Сангалло, который, объяснив ему, отчего происходит беда, уговорил его продолжать работу и научил, как снимать плесень. Когда работа была доведена до половины, папа, который и раньше не раз лазил с помощью Микеланджело по стремянкам, чтобы взглянуть на нее, потребовал, чтобы ее раскрыли, так как от природы был он торопливым и нетерпеливым и никак не мог дождаться, когда она будет завершена, то есть, как говорится, последнего удара кисти.
И, как только ее раскрыли, взглянуть на нее собрался весь Рим и в первую очередь папа, который не мог дождаться, когда уляжется пыль после снятия лесов. Увидев ее, и Рафаэль Урбинский, подражавший весьма превосходно, тотчас же изменил свою манеру и тут же написал, дабы показать, на что он способен, пророков и сивилл в Санта Мариа делла Паче; тогда Браманте попытался добиться того, чтобы вторую половину капеллы папа передал Рафаэлю. Услышав об этом, Микеланджело пожаловался папе на Браманте, рассказав без всякого стеснения о многочисленных его пороках и в жизни, и в архитектуре, последнее, как выяснится позднее, пришлось исправлять самому Микеланджело при строительстве собора Св. Петра. Но папа, в способностях Микеланджело с каждым днем убеждавшийся все больше, пожелал, чтобы он продолжал работу; ибо, увидев работу раскрытой, он рассудил, что вторая половина могла выйти у Микеланджело еще лучше: и действительно, тот и довел работу до конца в совершенстве в течение двадцати месяцев один, даже без помощи тех, кто растирал бы ему краски. Все же приходилось Микеланджело иногда и жаловаться на то, как торопил его папа назойливыми запросами, когда же он кончит, не давая ему закончить по-своему, как ему хотелось. И на один из многочисленных запросов он однажды ответил, что конец будет тогда, когда он сам будет удовлетворен своим искусством. «А мы желаем, – возразил папа, – чтобы было удовлетворено наше желание, которое состоит в том, чтобы сделать это быстро». И в заключение прибавил, что, если он не сделает это быстро, он прикажет столкнуть его с лесов вниз. Тогда Микеланджело, боявшийся гнева папы, да и было чего бояться, тотчас же не мешкая доделал чего не хватало и, убрав оставшиеся подмостья, раскрыл все утром в день Всех Святых так, что папа отправился в капеллу, чтобы на месте же отслужить мессу, к удовлетворению всего города.
Микеланджело хотелось пройти кое-где посуху, как это делали старые мастера, в написанных внизу историях, тронуть там и сям фоны, одежду и лица лазурным ультрамарином, а орнамент золотом, чтобы общий вид стал еще лучше и богаче; согласился на это и папа, узнав, что этого не хватает, так как слышал, как хвалили такие доделки те, кто их видел; однако, так как восстанавливать леса показалось Микеланджело делом слишком сложным, все осталось как было. Встречаясь с Микеланджело, папа напоминал ему часто: «Не сделать ли капеллу красками и золотом побогаче, ведь она бедновата». На что Микеланджело отвечал попросту: «Святой отец, в те времена люди золота на себе не носили, а те, что там изображены, слишком богатыми никогда не были, но были святыми людьми, так как презирали богатство». За это произведение папой было выплачено Микеланджело в несколько сроков три тысячи скудо, из которых на краски пришлось ему истратить двадцать пять. Выполнено же оно было с величайшими для него неудобствами, так как приходилось писать с закинутой вверх головой, и он так испортил себе зрение, что несколько месяцев не мог читать написанное и рассматривать рисунки иначе как снизу вверх, и я могу это подтвердить, так как, когда я расписывал пять помещений со сводами в больших залах дворца герцога Козимо, я бы их никогда не закончил, если бы не устроил себе кресло, где я мог откидывать голову и работать лежа; и этим я себе испортил глаза, и голова у меня ослабла так, что я чувствую это и теперь и удивляюсь, как вынес Микеланджело такие неудобства. Ведь, загораясь с каждым днем все сильнее желанием созидать, накопляя и улучшая созданное, он не замечал усталости и не заботился об удобствах.
Вся композиция этого произведения состоит из шести распалубков по сторонам и по одному в каждой торцовой стене; на них он написал сивилл и пророков в шесть локтей высотой; в середине же – от сотворения мира до потопа и опьянения Ноя, а в люнетах – всю родословную Иисуса Христа. В этой композиции он не пользовался правилами перспективы для сокращения фигур, и в ней нет единой точки зрения, но он шел путем подчинения скорее композиции фигурам, чем фигур композиции, довольствуясь тем, что выполнял и обнаженных и одетых с таким совершенством рисунка, что произведения столь превосходного никто больше не сделал и не сделает и едва ли при всех стараниях возможно повторить сделанное. Творение это поистине служило и поистине служит светочем нашему искусству и принесло искусству живописи столько помощи и света, что смогло осветить весь мир, на протяжении стольких столетий пребывавший во тьме. И, по правде говоря, пусть больше не мнит любой, считающий себя живописцем, увидеть после этого что-либо новое, будь то выдумки, позы, одежды на фигурах, новые выражения лиц или что-либо потрясающее в вещах, написанных по-разному, ибо все совершенство, какое только можно вложить в то, что в этом деле создается, он вложил в это свое произведение. Ныне же пусть поражается всякий, сумевший разглядеть в нем мастерство в фигурах, совершенство ракурсов, поразительнейшую округлость контуров, обладающих грацией и стройностью, и проведенных с той прекрасной соразмерностью, какую мы видим в прекрасных обнаженных телах, которые, дабы показать крайние возможности и совершенство искусства, он писал в разных возрастах, различными по выражению и по формам как лиц, так и очертаний тел, и членам которых он придавал и особую стройность, и особую полноту, как это заметно в их разнообразных красивейших позах, причем одни сидят, другие повернулись, третьи же поддерживают гирлянды из дубовых листьев и желудей, входящих в герб и в эмблему папы Юлия и напоминающих о том, что время его правления было золотым веком, ибо тогда еще не ввергнута была Италия в несчастия и беды, терзавшие ее позднее. А между ними расположены медали с историями из Книги царств, выпуклыми и словно вылитыми из золота и бронзы. А помимо всего этого, он, дабы показать совершенство искусства и могущество Бога, изобразил в своих историях, как он, являя свое величие, отделяет свет от тьмы и с распростертыми дланями парит, сам себя поддерживая, в чем сказались и любовь его и его мастерство. На второй истории он изобразил с прекраснейшими сообразительностью и талантом, как Господь создает солнце и луну, поддерживаемый многочисленными путтами; и являет собою потрясающую силу благодаря ракурсу рук и ног. Его же он изобразил в той же истории, где он парит, благословив землю и создав животных; такова на этом своде сокращающаяся фигура, которая, куда бы ты ни шел по капелле, все время вращается и оборачивается и в ту, и в другую сторону. Также и на следующей, где Бог отделяет воду от земли: эти фигуры настолько прекрасны и острота гения в них такова, что они достойны быть созданы лишь божественнейшими руками Микеланджело. И подобным же образом следует далее сотворение Адама с изображением Бога, опирающегося на группу обнаженных ангелов нежного возраста, которые несут будто не одну только фигуру, а всю тяжесть мира, что показано вызывающим величайшее благоговение величием Господа и характером его движения: одной рукой он обнимает ангелов, будто на них опираясь, десницу же он простирает к Адаму, написанному таким прекрасным, в таком положении, с такими очертаниями, что кажется, будто он снова сотворен высшим и изначальным создателем своим, а не кистью и по замыслу человека. Ниже этой, на другой истории он изобразил извлечение из его ребра матери нашей Евы, там изображены обнаженные люди, из которых один во власти сна кажется как бы мертвым, а другая, оживляемая благословением Господним, совсем проснулась. Кистью этого гениальнейшего художника показано все отличие сна от бодрствования, а также насколько твердым и непреложным может, говоря по-человечески, показаться нам божественное величие.
Ниже изображено, как Адам в ответ на уговоры полуженщины-полузмеи приемлет через яблоко собственную и нашу погибель. Там же изображено изгнание его и Евы из рая, и в фигуре ангела показано, с каким величием и благородством выполняется приказ разгневанного владыки, а в позе Адама и горечь содеянного греха, и страх смерти, в то время как в жене его стыд ее, унижение и раскаяние видны в том, как она обхватила себя руками, как она прижимает пальцы к ладоням, как она поворачивает голову к ангелу, опустив шею свою до грудей, ибо страх возмездия явно превозмогает в ней надежду на божественное милосердие. Не менее прекрасна история с жертвоприношением Каина и Авеля, где показано, как один несет дрова, другой, нагнувшись, раздувает огонь, иные же рассекают жертву, и все написано с не меньшей тщательностью и точностью, чем остальное. Так же искусно и толково написана история потопа, где изображены люди, гибнущие по-разному: испуганные ужасами этих дней, они пытаются различными путями, как только могут, спасти свою жизнь. И по лицам этих людей мы видим, что жизнь их во власти смерти, и в то же время видны страх и ужас и презрение ко всему. Во многих видно там и сострадание: один помогает другому взобраться на вершину скалы, где они ищут спасения, и среди них один, обнимающий другого, полумертвого, стараясь всеми силами спасти его, изображен так, что и природа этого лучше не покажет. Невозможно передать, как прекрасно изображена история Ноя, где он, опьяненный вином, спит, оголенный, и тут же присутствуют один из сыновей, над ним смеющийся, другие, его прикрывающие; история эта и мастерство художника не сравнимы ни с чем, и превзойти его мог бы разве только он сам. Тем не менее, будто мастерство это воодушевилось тем, что уже было сделано, оно поднялось еще выше и показало себя куда более великим в пяти сивиллах и семи пророках, написанных здесь с высотой каждой фигуры в пять локтей и более, во всех разнообразных их позах, в красоте тканей и разнообразии одежд, как и вообще в чудесных выдумках и рассудительности художника; почему они кажутся божественными всякому, кто различает страсти, которыми охвачены каждая из них.
Взгляните на этого Иеремию, который, скрестив ноги, одной рукой поглаживает бороду, опершись локтем на колено, другую же опустил между ног и голову склонил так, что явно видны его печаль, его мысли и горькое его раздумье о своем народе. Таковы же позади него и два путта и такова же и первая сивилла, что рядом с ним, ближе к двери, в которой он хотел выразить старость, не говоря о том, что, закутав ее в одежду, показал, что время охладило уже ее кровь и что во время чтения он заставляет ее подносить книгу к самым глазам, пристально в нее вглядываясь, ибо и зрение у нее уже ослабло. Рядом с этой фигурой находится ветхозаветный пророк Иезекииль, полный прекраснейшей грации и подвижности, в просторном одеянии, и держащий в одной руке свиток с пророчествами; другую же поднял и повернул голову, будто собираясь произнести слова возвышенные и великие, а позади него два путта подносят ему книги.
Дальше – еще одна сивилла; в противоположность сивилле Эритрейской, о которой говорилось выше, свою книгу она держит далеко от себя и, закинув ногу на ногу, собирается перелистнуть страницу, сосредоточенно обдумывая, о чем писать дальше, в то время как стоящий позади нее путт раздувает огонь, чтобы зажечь ее светильник. Фигура эта красоты необычайной и по выражению лица, и по прическе, и по одежде; таковы же и обнаженные ее руки. Рядом с этой сивиллой написан пророк Иоиль, который сосредоточился, держа в руках свиток, и читает его с большим вниманием и пристрастием, и по лицу его видно, какое удовольствие доставляет ему написанное, и похож он на живого человека, направившего большую часть своих мыслей на что-либо одно. Подобным же образом написан над дверью капеллы и старец Захария, который, разыскивая в книге что-то, чего найти не может, стоит, опершись на одну ногу и подняв другую, а так как увлечение поисками того, чего он не находит, заставляет его стоять в этом положении, он забывает о тех неудобствах, которые оно ему доставляет. В этой фигуре прекраснейшим образом показана старость, и по форме своей она несколько грубовата, но на ней ткань с немногими складками очень хороша. А кроме того, есть еще одна сивилла, которая, будучи обращенной к алтарю с другой стороны, показывает несколько исписанных свитков и вместе со своими путтами заслуживает похвалы не меньшей, чем остальные. Но если присмотреться к следующему за ней пророку Исайе, увидишь, что все черты его поистине взяты из самой природы, подлинной матери искусства, и увидишь фигуру, которая, будучи вся отлично проработана, может одна научить всем приемам хорошего живописца: пророк, сильно углубившись в свои мысли, скрестил ноги и одну руку заложил в книгу, отмечая то место, где остановил свое чтение, локоть другой поставил на книгу, подперев рукой щеку, а так как его окликнул один из путтов, что сзади него, он повернул к нему только голову, ничем не нарушая всего остального. Перед этим пророком находится прекрасная старая сивилла, которая, сидя, с предельным изяществом изучает книгу; прекрасны и позы двух написанных рядом с ней путтов. Но и немыслимо представить себе, чтобы возможно было что-либо прибавить к совершенству фигуры юноши, изображающей Даниила, который пишет в большой книге и, заглядывая в какие-то рукописи, с невероятным увлечением их переписывает: между ног его художник поместил путта, который поддерживает тяжесть этой книги, пока Даниил в ней пишет, с чем ничья кисть сравниться не сможет, кто бы ее ни держал. Такова же прекраснейшая фигура сивиллы Ливийской, которая, написав большой том, составленный из многих книг, в женственной позе хочет подняться на ноги и намеревается одновременно и встать и захлопнуть книгу: вещь труднейшая, чтобы не сказать невозможная, для любого другого, кроме ее создателя.
Что же можно сказать о четырех историях по углам в распалубках этого свода? На одной из них Давид со всей юношеской силой, какая только может потребоваться, чтобы одолеть великана, отрубает ему голову, приводя в изумление солдат, чьи головы окружают поле битвы; не иначе, чем иные, удивят прекрасные положения, использованные им в истории Юдифи, что на другом углу; в этой истории показано туловище Олоферна, причем чувствуется, что оно обезглавлено, Юдифь же кладет мертвую голову в корзину на голове своей старой служанки, которая такого высокого роста, что должна наклониться, чтобы Юдифь могла достать до корзины и как следует уложить в нее голову. Юдифь же, ухватив груз, старается его прикрыть, голову же свою повернула к мертвому туловищу, которое, хотя уже мертвое, но одним только поднятием ноги труп успел всполошить всех, кто были в шатре, и лицо ее выражает и страх перед тем, что происходит в лагере, и ужас перед мертвецом; живопись эта поистине достойна величайшего внимания.
Но еще более прекрасна и более божественна, чем описанная и чем все остальные, это история про змей Моисея, та, что над левым углом алтаря, ибо на ней видно, как истребляют людей падающие дождем змеи, как они жалят и кусают; показан там и медный змий Моисея, воздвигнутый им на столбе. На истории этой явственно видно, как по-разному умирают те, кто от этих укусов потерял всякую надежду. Там ведь показано, как жесточайший яд губит бесчисленное множество людей, умирающих от судорог и от страха, не говоря о том, что иные, кому змеи оплетают ноги и обвивают руки, застывают в том положении, в каком были, и двинуться больше не могут, не говоря и о том, как прекрасно выражение лиц тех, кто с криком в безнадежности падает на землю. Не менее прекрасны и те, кто, взирая на змия и чувствуя, как при взгляде на него облегчается боль и возвращается жизнь, смотрит на него с величайшим волнением, и среди них женщина, которую поддерживает мужчина, написана так, что в ней видна и помощь со стороны того, кто ее поддержал, и насколько она, внезапно и напуганная и ужаленная, в ней нуждается.
Подобным же образом и в другой истории, где Ассур, читая свою летопись, возлежит на ложе, есть очень хорошие фигуры, и между прочим привлекают внимание три фигуры пирующих и представляющих собою совет, созванный им, дабы освободить еврейский народ и повесить Аммана, фигура которого выполнена в необыкновенном сокращении: столб, на котором он висит, и рука, вытянутая вперед, кажутся не написанными, а выпуклыми и настоящими, как и нога, которая также выдвинута вперед, да и те части, которые уходят вглубь; фигура эта из всех прекрасных и трудных для исполнения фигур несомненно самая прекрасная и самая трудная. Слишком долго было бы разъяснять все многочисленные прекрасные и разнообразные выдумки там, где показана вся родословная праотцов, начиная с сыновей Ноя, для доказательства происхождения Иисуса Христа; в этих фигурах не перечислить всего разнообразия таких вещей, как одежды, выражения лиц и бесчисленное множество необыкновенных и новых выдумок, прекраснейшим образом обдуманных; и нет там ничего, что не было бы выполнено с вдохновением, и все имеющиеся там фигуры изображены в прекраснейших и искуснейших сокращениях, и все, что там восхищает, достойно величайших похвал и божественно.
Но кто же не восхитится и не поразится, увидев потрясающего Иону, последнюю фигуру капеллы, где силой искусства свод, который, изгибаясь по стене, в действительности выступает вперед, кажется прямым благодаря видимому воздействию этой отклонившейся назад фигуры, и, подчинившись искусству рисунка, тени и свету, он поистине как бы отклоняется назад? О, поистине счастливое наше время! О блаженные мастера искусства! Именно так должны вы именоваться, ибо при жизни своей смогли вы у источника столь светлого прояснить омраченный свет очей и увидеть простым все трудное благодаря художнику столь дивному и необычному. Нет сомнения в том, что признание и почет принесут вам славные труды того, кто снял повязку с очей разума вашего, пребывавшего во тьме кромешной, и показал вам истинное, отделив его от ложного, омрачавшего ваш ум. Возблагодарите же за это небо и стремитесь подражать Микеланджело во всем.
Весть об открытии капеллы распространилась по всему свету, и со всех сторон сбегались люди; и одного этого было достаточно, чтобы они, остолбеневшие и онемевшие, в ней толпились. Недаром папа, почувствовавший в этом свое величие и решившийся на еще большие начинания, деньгами и богатыми подарками всячески вознаградил Микеланджело, и тот не раз говаривал, что, судя по столь великим милостям этого папы, последний явно очень высоко ценил его достоинство, и если иной раз он, любя, и обижал его, то заглаживал это особыми милостями и дарами: как и случилось, что однажды, когда Микеланджело обратился за разрешением на поездку во Флоренцию для работ в Сан Джованни и попросил у него на это денег, он на вопрос папы: «Ну, ладно, а когда же ты покончишь с капеллой?» ответил: «Когда смогу, святой отец». На это папа дубинкой, которую он держал в руках, начал колотить Микеланджело, приговаривая: «Когда смогу, когда смогу, я-то заставлю тебя ее закончить». Однако едва Микеланджело вернулся домой, собираясь во Флоренцию, папа тут же прислал к нему своего служителя Курсио с пятистами скудо в опасении, как бы Микеланджело что-нибудь не выкинул, извинившись перед ним и успокоив его тем, что все это было только проявлением его милости и его любви; а так как Микеланджело знал характер папы и в конце концов и сам его любил, он рассмеялся, поняв, что все идет ему на благо и на пользу и что первосвященник не постоит ни перед чем, чтобы сохранить дружбу с таким человеком.
Между тем после завершения капеллы и незадолго до кончины папы Его Святейшество поручил кардиналу Четырех Святых и кардиналу Аджинензе, своему племяннику, в случае его смерти закончить его гробницу по проекту более простому, чем был первый. К этому делу снова приступил Микеланджело; и вот он с охотой взялся за гробницу, чтобы без стольких помех довести ее на этот раз до конца, но всегда получал от нее впоследствии больше неприятностей, докук и затруднений, чем от чего-либо другого, но всю свою жизнь и на долгое время прослыл, так или иначе, неблагодарным по отношению к тому папе, который так ему покровительствовал и благоволил. Итак, возвратившись к гробнице, он работал над ней беспрерывно, приводя в то же время в порядок рисунки для стен капеллы, однако завистливой судьбе не угодно было, чтобы этот памятник, начатый с таким совершенством, так же был и закончен, ибо приключилась в то время смерть папы Юлия, а потому работа эта была заброшена из-за избрания папы Льва X, который, блиставший предприимчивостью и мощью не меньше Юлия, пожелал оставить у себя на родине, ибо он был первым первосвященником, оттуда происходившим, на память о себе и божественном художнике, своем согражданине, такие чудеса, какие могли быть созданы лишь таким величайшим государем, как он.
И посему, так как он распорядился, чтобы фасад Сан Лоренцо во Флоренции, церкви, выстроенной семейством Медичи, был поручен Микеланджело, это обстоятельство и стало причиной того, что работа над гробницей Юлия осталась незаконченной; Микеланджело же было приказано высказать свое мнение, составить проект и возглавить новую работу. Микеланджело противился этому всеми силами, ссылаясь на обязательства в отношении гробницы, взятые им перед кардиналом Четырех Святых и Аджинензе. Папа же ответил ему, чтобы он об этом и не думал, что он уже за него подумал и освободил его от обязательств перед ними, пообещав разрешить Микеланджело работать над фигурами для названной гробницы во Флоренции в том духе, в каком он их уже начал; но все это огорчило и кардиналов и Микеланджело, удалившегося со слезами.
Недаром последующие обсуждения всего этого были разнообразными и бесчисленными, тем более что работу над фасадом пожелали поделить между несколькими лицами; много архитекторов съехались в Рим к папе, и проекты составили Баччо д'Аньоло, Антонио да Сангалло, Андреа и Якопо Сансовино, а также прелестный Рафаэль Урбинский, который с этой целью был отправлен во Флоренцию позднее, когда туда прибыл папа. Посему решил и Микеланджело сделать модель, высказав желание, чтобы только он, и никто другой, был главным руководителем архитектурных работ. Однако этот отказ от помощи и стал причиной того, что к работе не приступали ни он, ни другие, и, махнув на все рукой, названные мастера возвратились к своим обычным занятиям, а Микеланджело, собравшись в Каррару, получил предписание, чтобы Якопо Сальвиати выплатил ему тысячу скудо; однако, так как Якопо сидел запершись в своей комнате, обсуждая дела с какими-то горожанами, Микеланджело не пожелал дожидаться приема, но, ни слова не говоря, повернулся и тотчас же уехал в Каррару. Якопо узнал о посещении Микеланджело, но, не застав его во Флоренции, отослал ему тысячу скудо в Каррару. Посланный захотел получить расписку, Микеланджело же ему ответил, что деньги эти расходуются папой, но что он в них не заинтересован, и пускай посланный доложит, что он не привык выдавать квитанции и расписываться за других; тогда тот, перепугавшись, возвратился к Якопо ни с чем. Проживая в Карраре и добывая мрамор столько же для фасада, сколько для гробницы, все еще думая ее закончить, Микеланджело получил письменное извещение о том, что папа Лев прослышал, будто в горах Пьетрасанты, близ Серавеццы, принадлежавших Флоренции, на самой высокой горе, именовавшейся Альтиссимо, были мраморы, не уступавшие каррарским добротностью и красотой; Микеланджело же об этом было уже известно, но ему, видимо, не хотелось этим заниматься, так как он был приятелем маркиза Альбериго, владельца Каррары, и для его выгоды он предпочитал добывать мрамор не в Серавецце, а в Карраре; или же он считал, что дело это долгое и отнимет много времени, как оно и вышло. И все же ему пришлось отправиться в Серавеццу, сколько он ни возражал, что и трудностей будет больше и расходов, как оно, возможно, и было бы, в особенности в начале работ, а может, этого, пожалуй, вовсе и не было. Папа же просто ничего об этом и слышать не хотел, приказав проложить через горы дорогу на несколько миль и выравнивать ее, выламывая скалы кувалдами и мотыгами, а в болотистых местах забивать сваи, и так много лет потратил Микеланджело на выполнение воли папы, а в конце концов были высечены там пять колонн надлежащих размеров, одна из которых находится во Флоренции на площади Сан Лоренцо, остальные же остались на берегу моря. Посему маркиз Альбериго, потерпевший убытки, и стал после этого большим врагом ни в чем не повинного Микеланджело.
Помимо названных колонн он добыл много другого мрамора, который более тридцати лет до сих пор так и простоял в каменоломнях. Однако ныне герцогом Козимо отдано распоряжение для доставки этого мрамора закончить дорогу, которой осталось доделать еще две мили, весьма трудных, и провести ее и дальше к другой каменоломне с превосходным мрамором, обнаруженным еще Микеланджело, для завершения многих его отличнейших начинаний; и там же в Серавецце, под Стацемой, деревней, расположенной в этих горах, он обнаружил гору с крепчайшим и красивейшим мискио, куда тот же герцог Козимо приказал провести мощеную дорогу длиной более четырех миль для подвоза к берегу моря.
Возвратимся же к Микеланджело, который, вернувшись во Флоренцию и теряя много времени то на одно, то на другое, сделал тогда же для палаццо деи Медичи модель «коленопреклоненных» окон для угловых помещений, в которых Джованни да Удине отделал лепниной одну из комнат и расписал ее так, что не нахвалишься, а Пилото, золотых дел мастер, под его руководством забрал окна такими сквозными медными ставнями, поистине чудесными.
Много лет потратил Микеланджело на добычу мрамора; правда, добывая его, он лепил восковые модели и делал и кое-что другое для выполнения заказа, но дело это затруднялось так, что деньги, предназначенные папой на эту работу, были потрачены на войну в Ломбардии, и вся работа так и осталась незаконченной по случаю смерти Льва; ведь ничего другого сделано не было, кроме передней части фундамента, под фасад, а из Каррары на площадь Сан Лоренцо привезли большую мраморную колонну.
Кончина Льва привела в такое смятение художников и искусство и в Риме и во Флоренции, что при жизни Адриана VI Микеланджело оставался во Флоренции и занимался гробницей Юлия. Но когда умер Адриан и папой был избран Климент VII, стремившийся в искусствах архитектуры, скульптуры и живописи оставить по себе славу в степени не меньшей, чем Лев и другие его предшественники, в это время, в 1525 году, юный Джорджо Вазари кардиналом Кортонским был привезен во Флоренцию и определен к Микеланджело обучаться искусству. Однако, так как последний был вызван в Рим папой Климентом VII, по заказу которого он начал библиотеку Сан Лоренцо и Новую сакристию, где должны были быть размещены выполненные им же мраморные гробницы предков папы, кардинал решил, что Вазари побудет у Андреа дель Сарто, покуда Микеланджело не освободится, и сам он его и отвел в мастерскую Андреа, чтобы его представить.
Микеланджело уехал в Рим второпях: снова начались на него нападки племянника папы Юлия, Урбинского герцога Франческо Мариа, жаловавшегося на Микеланджело, говоря, что, получив шестнадцать тысяч скудо на упоминавшуюся гробницу, он жил во Флоренции в свое удовольствие; и жестоко ему грозил, что до него доберется, если он ею не займется. По приезде его в Рим папа Климент, который собирался пользоваться его услугами, посоветовал ему свести счеты с представителями герцога, так как полагал, что, судя по тому, что он сделал, он был скорее кредитором, чем должником. Тем дело и кончилось; они же, многое друг с другом обсудив, решили полностью завершить во Флоренции Новую сакристию и библиотеку Сан Лоренцо.
После того как он уехал из Рима и возвел тот купол, который и ныне там можно видеть и который он приказал отделать разными членениями, а золотых дел мастеру Пилото заказал великолепнейший шар с семьюдесятью двумя гранями, случилось так, что в то время, когда он возводил купол, кто-то из его друзей задал ему такой вопрос: «Фонарь вам, должно быть, придется сделать другим, чем у Филиппа Брунеллеско?» На что тот ответил: «По-другому сделать можно, но лучше нельзя».
Он поставил там четыре гробницы, украшавшие стены, предназначенные для праха отцов двух пап: Лоренцо-старшего и Джулиано, его брата, а также для Джулиано, брата Льва, и для герцога Лоренцо, его племянника. А так как он задумал подражать старой сакристии, созданной Филиппо Брунеллеско, но с украшениями другого ордера, он отделал ее сложным ордером в более разнообразном и более новом духе, чем тот, который когда-либо смели позволить старые и современные мастера, ибо новизной столь красивых карнизов, капителей и баз, дверей, ниш и гробниц он создал нечто весьма отличное от того, что делалось по размерам, по чину и по правилам в соответствии с общепринятым обычаем, с Витрувием и с древностью людьми, не желавшими ничего прибавлять к старому. И вольности эти весьма приободрили тех, кто, увидев его работу, начал ему подражать; после чего в их украшениях появились новые выдумки, скорее как причуды, чем согласно разуму или правилам. Поэтому художники ему бесконечно и навеки обязаны за то, что он порвал узы и цепи в тех вещах, которые они неизменно создавали на единой проторенной дороге.
Но затем он придумал и нечто лучшее и пожелал показать это там же в библиотеке Сан Лоренцо в прекрасном членении окон, в разбивке потолка и в дивном входе в это помещение. Никогда еще не видано было изящества более смелого как в целом, так и в частях, как в консолях, в нишах и в карнизах; не видано было и лестницы более удобной, с ее столь причудливыми изломами ступенек, и все это настолько отличалось от общепринятого другими, что поражало каждого.
В это время он послал своего ученика пистойца Пьетро Урбано в Рим для работы над обнаженным Христом, держащим крест; эта чудеснейшая статуя, выполненная по заказу Антонио Метелли, была поставлена в Минерве рядом с главной капеллой. Примерно в это время произошел разгром Рима и изгнание Медичи из Флоренции; по случаю этих перемен правители города, постановившие заново укрепить его, назначили Микеланджело главным комиссаром над всеми крепостными работами, после чего он по своим проектам укрепил город во многих местах и в заключение опоясал холм Сан Миньято бастионами, сооруженными не кое-как из дерна, хвороста и бревен, как это обычно принято, но укрепил их срубами из каштана, дуба и других добротных материалов, а дерн он заменил необожженным кирпичом, смешанным с паклей и навозом и выровненным весьма тщательно. И по этому делу он был послан флорентийской Синьорией в Феррару для осмотра как укреплений герцога Альфонсо I, так и его артиллерии и снаряжения; там он был очень обласкан названным государем, который попросил его сделать ему что-нибудь собственноручно по собственному усмотрению, и все это Микеланджело ему обещал. По возвращении он неустанно продолжал работы по укреплению города, и хотя они и мешали ему, он тем не менее написал для упоминавшегося герцога картину темперой с Ледой; работа эта была божественной, о чем и будет рассказано в своем месте, а также тайком работал он и над статуями для гробниц в Сан Лоренцо. Также в это время Микеланджело провел на холме Сан Миньято чуть ли не шесть месяцев, торопясь с укреплением этого холма, ибо, если бы враг овладел им, был бы потерян и город, а потому он со всем своим старанием и продолжал это дело.
И в то же время он и в названной сакристии продолжал работу, от которой осталось семь статуй; из них одни законченные, другие же не совсем; приходится признать, что в них, вместе с его выдумками для архитектуры гробниц, он в этих трех областях превзошел любого другого. Об этом свидетельствуют и те им начатые и отделанные мраморные статуи, которые и теперь там можно видеть; одна из них – Богоматерь, которая, сидя, перекинула правую ногу через левую, положив одну коленку на другую, а младенец, обхватив своими ногами ее поднятую ногу, прелестнейшим движением обернулся к матери, требуя молока, она же, опершись на одну руку и придерживая его другой, наклонилась, чтобы его накормить, и хотя некоторые части и не закончены, все же в самой незавершенности наброска, не отделанного резцом и зубилом, опознается совершенство творения. Однако еще больше поражает всякого, что, замыслив надгробия герцога Джулиано и герцога Лоренцо деи Медичи, он решил, что у земли недостаточно величия для достойной их гробницы, но пожелал, чтобы все стихии Вселенной в этом участвовали и чтобы четыре статуи их окружали, покрывая собою усыпальницы: на одну из них он положил Ночь и День, а на другую Аврору и Сумерки. Статуи эти отличаются великолепнейшей формой их поз и искусной проработкой их мышц, и если бы погибло все искусство, они одни могли бы вернуть ему его первоначальный блеск.
Среди прочих статуй там и оба пресловутых военачальника в латах; один из них – задумчивый герцог Лоренцо, олицетворяющий собою мудрость, с ногами настолько прекрасными, что лучше не увидишь; другой же – герцог Джулиано, такой гордый, с такими божественными головой и шеей, глазницами, очертанием носа, разрезом уст и волосами, а также кистями, руками, коленами и ступнями, – одним словом, все там сделанное им и еще недоделанное таково, что никогда очей не утолит и не насытит. Кто же присмотрится к красоте поножей и лат, поистине сочтет их созданными не на земле, а на небе. Но что же сказать мне об Авроре – нагой женщине, способной изгнать уныние из любой души и выбить резец из рук самой Скульптуры: по ее движениям можно понять, как она, еще сонная, пытается подняться, сбросить с себя перину, ибо кажется, что, пробудившись, она увидела великого герцога уже смежившим свои очи; вот почему она с такой горечью и ворочается, печалясь в изначальной красе в знак своей великой печали. А что же смогу я сказать о Ночи, статуе не то что редкостной, но и единственной? Кто и когда, в каком веке видел когда-либо статуи древние или новые, созданные с подобным искусством? Перед нами не только спокойствие спящей, но и печаль и уныние того, кто потерял нечто почитаемое и великое. И веришь, что эта Ночь затмевает всех, когда-либо помышлявших в скульптуре и в рисунке, не говорю уже о том, чтобы его превзойти, но хотя бы с ним сравниться. В ее фигуре ощутимо то оцепенение, какое видишь в спящих. И потому люди ученейшие сложили в ее честь много стихов, латинских и народных, вроде следующих, автор коих мне неизвестен:
Ночь, что так сладко пред тобою спит,
То ангелом одушевленный камень:
Он недвижим, но в нем есть жизни пламень,
Лишь разбуди – и он заговорит.
На них, от имени Ночи, Микеланджело ответил так:Молчи, прошу, не смей меня будить!
О, в этот век преступный и постыдный
Не жить, не чувствовать удел завидный,
Отрадно спать, отрадно камнем быть!
И нет сомнения в том, что если бы вражда между судьбой и доблестью и между добротой последней и завистью первой дала возможность довести такую вещь до конца, искусство смогло бы показать природе, насколько в любом своем замысле оно ее превосходит. Когда он с величайшим рвением и любовью работал над творениями подобного рода, в 1529 году началась осада Флоренции (она-то и помешала завершить их); по этой причине пришлось ему работать совсем мало или вовсе прекратить работы, ибо сограждане поручили ему укрепить помимо холма Сан Миньято и всю землю, как об этом уже говорилось. А так как он одолжил республике тысячу скудо и был назначен членом Военной девятки, учрежденной на время войны, он всеми своими помыслами и всей душой стремился усовершенствовать эти укрепления. Но, так как осаждавшее войско ее в конце концов окружило Флоренцию и все меньше оставалось надежды на помощь, а трудностей у защитников становилось все больше, и так как ему казалось, что он находится в ложном положении, он ради собственной безопасности решил покинуть Флоренцию и уехать в Венецию, никому в пути себя не объявляя. И вот он уехал тайком, дорогой, что шла через холм Сан Миньято, так что никто об этом не узнал, взяв с собой ученика своего Антонио Мини и золотых дел мастера Пилото, верного своего друга, причем взятые с собой деньги они зашили на спине в куртки. Когда они приехали в Феррару и там отдохнули, случилось так, что из-за подозрительности военного времени и вследствие союза между императором и папой, окруживших Флоренцию, герцог Альфонсо д'Эсте распоряжался в Ферраре и хотел тайным образом узнать от хозяев постоялых дворов имена всех ежедневно у них проживающих постояльцев, а также приказал ежедневно доставлять ему списки иностранцев с указанием их национальности; и так случилось, что, как только Микеланджело, а с ним и его спутники слезли с седла с намерением остаться неизвестными, так уже описанным путем узнал о них герцог, которого это очень обрадовало, так как он с Микеланджело уже подружился. Великодушный государь этот, на протяжении всей своей жизни покровительствовавший талантам, тотчас же послал нескольких главных своих придворных, с тем чтобы они от имени Его Превосходительства привели Микеланджело во дворец, туда, где находился герцог, и, захватив коней и все его пожитки, предоставили ему во дворце наилучшее помещение. Сообразив, что сила не на его стороне, Микеланджело пришлось подчиниться, и, отдав задаром то, что он не мог продать, вместе с посланными отправился он к герцогу, оставив, однако, вещи на постоялом дворе. И вот герцог, приняв его самым радушным образом, пожурил его за нелюдимость, а затем осыпал богатыми и почетными дарами и предложил остаться в Ферраре с хорошим содержанием. Но у того душа к этому не лежала и он не пожелал там остаться, герцог же, попросив его не уезжать хотя бы до окончания войны, снова предложил ему все, что только было в его возможностях. Тогда Микеланджело, не желая уступать ему в любезности, горячо поблагодарил герцога и, указав на своих спутников, заметил, что привез с собой в Феррару двенадцать тысяч скудо и что герцог в случае надобности может располагать всем этим и им самим в придачу. Герцог провел его по дворцу, как это делал и раньше, и показал ему все находившиеся там красивые вещи, вплоть до своего портрета кисти Тициана. Микеланджело похвалил очень портрет, но ничто не могло задержать его во дворце, так как он хотел возвратиться на постоялый двор. Тогда хозяин, у которого он стоял, стал исподволь получать для него от герцога бесчисленное множество почетных даров, а также получил распоряжение при отъезде ничего с него не брать за постой.
Оттуда он направился в Венецию, где знакомства с ним искали многие дворяне, но, так как ему никогда не казалось, что они в этом деле что-либо смыслят, он покинул Джудекку, где он поселился и где он именно тогда по просьбе дожа Гритти сделал для этого города набросок моста Риальто, проект редкостный по замыслу своему и своей нарядности.
Микеланджело с великими просьбами уговаривали воротиться на родину, всячески просили его не бросать начатое и выслали ему пропуск. В конце концов любовь к родине победила и, не без опасности для собственной жизни, он вернулся. Между тем он закончил Леду, которую, как упоминалось, он писал по просьбе герцога Альфонсо и которая позднее была увезена во Францию его учеником Антонио Мини. Тотчас же спас он колокольню Сан Миньято, то есть башню, которая, как это ни странно, двумя пушками поражала вражеский лагерь, откуда вражеские бомбардиры, начав ее обстреливать тяжелыми орудиями, чуть не разбили ее и наверное ее бы разрушили, если бы Микеланджело, подвесив на веревках мешки с шерстью и толстые матрасы, не защитил ее так, что она до сих пор еще стоит.
Говорят о том, что во время осады ему удалось заполучить привезенную из Каррары мраморную глыбу в девять локтей, которую ему хотелось и раньше иметь, но которую папа Климент отдал Баччо Бандинелли, когда между ними возникли соперничество и соревнование; но, так как она была общественной собственностью, он выпросил ее у гонфалоньера, который и передал ему ее с тем, чтобы он сделал то же, что и Баччо, который уже изготовил модель и отколол порядочный кусок мрамора для болванки. Сделал и Микеланджело модель, признанную чудесной и отменно красивой, однако по возвращении Медичи глыба была возвращена Баччо. Когда военные действия окончились, Баччо Валори, папский комиссар, получил полномочия задерживать и доставлять в Барджелло граждан, проявивших наибольшую враждебность; этот же суд искал и Микеланджело в его доме, откуда он, опасаясь этого, скрылся в доме одного своего большого друга, где и прятался много дней, пока не улеглись страсти и пока папа Климент не вспомнил о доблести Микеланджело и приказал во что бы то ни стало разыскать его, отдав распоряжение не только ничем его не попрекать, но возвратить ему обычное содержание и передать ему работу в Сан Лоренцо с назначением проведитором мессера Джовамбаттисты Фиджованни, приора Сан Лоренцо, давно служившего семейству Медичи. Удостоверившись в своей безопасности, Микеланджело принялся, чтобы расположить к себе Баччо Валори, за мраморную фигуру размером в три локтя, представлявшую Аполлона, который вынимает стрелу из колчана, и почти довел ее до завершения. Теперь она находится в покоях государя Флоренции; вещь это редкостнейшая, хотя и не вполне законченная.
В это самое время к Микеланджело был послан некий дворянин герцогом Альфонсо Феррарским, прослышавшим, что он собственноручно сделал для него нечто редкостное, и не желавшим упустить такую для себя приятность. По прибытии во Флоренцию тот разыскал его и предъявил ему доверенность названного государя. Тогда Микеланджело, приняв его, показал ему написанную им Леду, обнимающую лебедя с Кастором и Поллуксом, вылупляющимися из яйца, на большой картине, непринужденно написанной темперой, но посланец герцога, наслышавшийся имени Микеланджело и считая, что тот должен был создать что-то более величественное, но, не поняв, как искусно и превосходно была написана эта фигура, заявил Микеланджело: «О, это пустяки!» Микеланджело спросил у него, чем он занимается, зная, что наилучшее суждение о том или ином деле могут дать только те, кто достаточно глубоко им овладел. Тот же, усмехаясь, ответил: «Я купец», полагая, что Микеланджело не узнал в нем дворянина, и вроде как издеваясь над таким вопросом, показывая вместе с тем, что он презирает занятия флорентинцев. Микеланджело, отлично поняв его слова, ему сразу же и ответил: «На этот раз вы для вашего хозяина торгуете плохо. Убирайтесь-ка вон отсюда».
А в эти же дни обратился к нему с той же просьбой Антонио Мини, его ученик, у которого две сестры были на выданье, и он охотно подарил ему картину с большою частью его собственноручными рисунками и картонами, вещами божественными, так что тот увез с собой во Францию, куда он задумал уехать, два ящика моделей с большим числом законченных картонов для задуманных картин, а частью с уже готовыми произведениями. Леду же он там продал через купцов королю Франциску, и она находится теперь в Фонтенбло; картоны и рисунки пропали, так как он вскоре там умер и их разворовали; так страна эта лишилась многочисленных и столь полезных его трудов, что было для нее ущербом неоценимым. Позднее во Флоренцию воротился картон с Ледой, принадлежащий ныне Бернардо Веккьетти и также четыре картона для капеллы с обнаженными фигурами и пророками, привезенные скульптором Бенвенуто Челлини и находящиеся в настоящее время у наследников Джироламо дельи Альбицци.
Пришлось Микеланджело отправиться в Рим к папе Клименту, который, хотя на него и гневался, простил ему все, будучи другом талантов. Он приказал ему ехать обратно во Флоренцию для окончательного завершения библиотеки и сакристии Сан Лоренцо, а, чтобы ускорить работы, большое число статуй, для них предназначавшихся, были распределены между другими мастерами. Две Микеланджело заказал Триболо, одну Рафаэлло да Монтелупо и одну фра Джованни Аньоло, монаху-сервиту; все они были скульпторами, а он всем в этом деле помогал, лепя для каждого из них глиняные модели, по которым они успешно работали, а кроме того, он же заставлял их заниматься библиотекой, где потолок был отделан деревянной резьбой по его моделям руками флорентинцев Карота и Тассо, превосходных резчиков и мастеров, а также и живописцев, полки же для книг подобным же образом были выполнены Баттистой дель Чинкве и его другом Чапино, хорошими мастерами этого дела; а для окончательного завершения работ во Флоренцию был приглашен божественный Джованни да Удине, который вместе с другими работавшими там флорентийскими мастерами отделал лепниной трибуну: так торопились закончить столь обширное начинание.
Когда же Микеланджело собрался заняться статуями, в это время папе пришло на ум вызвать его к себе, так как задумал он расписать стены Сикстинской капеллы, в которой Микеланджело расписал потолок его предшественнику Юлию II. Клименту хотелось, чтобы на этих стенах, а именно на главной из них, там, где алтарь, был написан Страшный суд, так чтобы можно было показать на этой истории все, что было в возможностях искусства рисунка, а на другой стене, насупротив, приказано было над главными дверями показать, как был изгнан с небес Люцифер за свою гордыню и как были низвергнуты в недра ада все ангелы, согрешившие вместе с ним. Много лет спустя обнаружилось, что Микеланджело делал наброски и различные рисунки для этого замысла, причем по одному из них была написана фреска в римской церкви Тринита одним сицилийским живописцем, который много месяцев служил у Микеланджело, растирая ему краски. Фреска эта находится в средокрестии церкви, возле капеллы св. Григория, и хотя написана она плохо, все же можно обнаружить нечто ужасающее и разнообразное в движениях и группах обнаженных тел, падающих с неба и низвергающихся в недра земли, превращаясь в дьяволов разного вида, страшных и уродливых; и выдумка эта безусловно затейливая.
В то время как Микеланджело отдавал в работу эти рисунки и картоны для первой стены со Страшным судом, ему приходилось ежедневно ссориться с посланцами герцога Урбинского, которые попрекали его тем, что он получил от папы Юлия II шестнадцать тысяч скудо за гробницу; эти попреки стали ему невыносимы, и ему хотелось когда-нибудь с этим разделаться, хотя и был он уже стар и с удовольствием остался бы в Риме, так как ему был предоставлен случай, которого он и не искал вовсе, не возвращаться больше во Флоренцию, где он сильно боялся герцога Алессандро деи Медичи, которого отнюдь не считал своим другом; недаром, когда ему через синьора Алессандро Вителли предложили выбрать наилучшее место для замка и крепости во Флоренции, он ответил, что не поедет туда иначе как по приказанию папы Климента.
В конце концов о гробнице договорились так закончить это дело, чтобы не делать ее в виде отдельно стоящего четырехгранника, а отделать ее лишь с одной стороны, как этого хотелось Микеланджело, взявшему на себя обязательство поставить там шесть высеченных им собственноручно статуй, и в этом договоре, заключенном с герцогом Урбинским, Его Превосходительство согласился, чтобы Микеланджело работал на папу Климента четыре месяца в году либо во Флоренции, либо там, где папе покажется более уместным его использовать. Но хотя Микеланджело и казалось, что на этом он может успокоиться, дело этим не кончилось, ибо папа Климент, которому хотелось увидеть окончательное доказательство мощи его таланта, заставлял его заниматься картоном для Страшного суда. Он же, делая вид для папы, что он только этим и поглощен, тратил на это не все свои силы и тайком работал над статуями, предназначавшимися для названной гробницы.
Когда в 1533 году приключилась смерть папы Климента, во Флоренции остановились работы и в сакристии и в библиотеке, которые, как ни старались их закончить, так и остались незавершенными. Микеланджело решил, что он стал теперь действительно свободным и сможет заняться завершением гробницы Юлия II; однако, когда был избран Павел III, не прошло много времени, как он вызвал его к себе и не только обласкал его и сделал ему всякого рода предложения, но и заявил, что хочет, чтобы он ему служил и находился при нем. Это предложение Микеланджело отверг, ответив, что он не может его принять до завершения гробницы Юлия, так как связан договором с герцогом Урбинским. Папа вспылил, говоря: «Я ждал этого тридцать лет, и теперь, когда я стал папою, я от этого не откажусь, договор я разорву, так как хочу, чтобы ты мне служил во что бы то ни стало».
Когда Микеланджело услышал такие решительные слова, ему захотелось уехать из Рима и закончить гробницу так или иначе. Тем не менее, будучи человеком осторожным, он убоялся папского могущества и, видя, что тот весьма уже стар, он стал придумывать, как бы оттянуть время, и уговаривал его всякими словами, дабы что-нибудь из этого получилось. А папа, который хотел бы заставить Микеланджело создать нечто значительное, в один прекрасный день явился к нему в сопровождении десяти кардиналов на дом, где пожелал увидеть все статуи и гробницы Юлия, каковые показались ему чудесными, и в особенности Моисей, одной фигуры которого, по словам кардинала мантуанского, было достаточно для прославления папы Юлия. Увидев же картоны и рисунки, заготовленные им для стен капеллы, папа признал их изумительными и снова начал настоятельно просить его поступить к нему на службу, обещая уговорить Урбинского герцога удовольствоваться тремя статуями, с тем чтобы остальные были выполнены по его моделям другими превосходными мастерами. После этого Его Святейшество договорился с посланцами герцога, и был заключен новый договор, утвержденный герцогом, а Микеланджело обязался немедленно оплатить три статуи и строительство самой гробницы, для чего положил в банк Строцци одну тысячу пятьсот восемьдесят дукатов, которыми тот мог распоряжаться, чем, как ему казалось, он снял с себя обязательства по делу, столь затянувшемуся и неприятному. После чего строительство гробницы производилось им в Сан Пьетро ин Винкола следующим образом.
Он воздвиг нижнее резное основание с четырьмя пьедесталами, выступавшими как первоначально, когда на каждом из них должны были помещаться по одному пленнику, вместо которых теперь должны были быть поставлены фигурные гермы, а так как снизу гермы эти выглядели бедными, он под каждую из них на все четыре пьедестала поместил опрокинуты консоли. Между четырьмя гермами находились три ниши, из которых две полукруглые предназначались ранее для Побед, вместо этого в одну была поставлена Лия, дочь Лавана, олицетворение деятельной жизни, с зеркалом в одной руке для должного наблюдения за нашими действиями и с гирляндой цветов в другой, обозначающих добродетели нашей жизни при жизни и прославляющих ее после смерти. Другой же была Рахиль, сестра Лии, олицетворяющая созерцательную жизнь, сложившая руки и согнувшая одно колено, с лицом одухотворенным. Обе статуи Микеланджело высек собственноручно в течение менее одного года. Между ними была третья, прямоугольная ниша; по первоначальному рисунку такой должна была быть одна из дверей, которые вели в овальный внутренний храмик прямоугольной гробницы. Дверь же была превращена теперь в нишу, где на мраморный цоколь поставлена огромнейшая и прекраснейшая статуя Моисея, о которой уже достаточно говорилось. На головы герм, служащие капителями, положены архитрав, фриз и вынесенный над гермами карниз, покрытый порезкой в виде богатых гирлянд и листьев, цветов и зубчиков и других богатых членений по всему произведению. Над этим карнизом проходит второй гладкий ордер без порезок и с другими гермами, отвечающий по отвесу первому в виде пилястр с многообломным карнизом, и верхний ордер во всем подчиняется нижнему и сопровождает его; в нем в проеме, подобном той нише, в которой теперь находится Моисей, на выступах карниза стоит мраморная гробница с лежащей статуей папы Юлия, выполненной скульптором Мазо даль Боско, а прямо над ней в самой нише – Богоматерь с сыном на руках, выполненная скульптором Скерино из Сеттиньяно по модели Микеланджело, и статуи эти выполнены весьма толково. В двух же остальных прямоугольных нишах над Жизнью Деятельной и Жизнью Созерцательной – больших размеров две сидящие статуи Пророка и Сивиллы, и обе они были выполнены Рафаэлем да Монтелупо, как было сказано в жизнеописании отца его Баччо, причем Микеланджело выполнением их удовлетворен не был. Все творение завершается особым карнизом, обходящим кругом с тем же выносом, что и нижний, а над гермами поставлены в виде завершения мраморные канделябры, и между ними находится герб папы Юлия, а над Пророком и Сивиллой в проеме ниши он для каждой из двух статуй пробил по окну для удобства монахов, обслуживающих церковь: хор находится позади и окна эти во время богослужения способствуют, чтобы голоса проникали в церковь и видно было, что в ней совершается. И, по правде говоря, вся эта работа получилась отличной, и все же далеко не такой, какой она была задумана в первоначальном проекте.
Микеланджело решил, ибо по-иному поступить он не мог, пойти на службу папы Павла, который пожелал, чтобы он продолжал то, что ему было предписано Климентом, без каких-либо изменений заданных ему замыслов и решений, ибо папа питал почтение к таланту этого человека, которого он так любил и уважал, что всячески искал угодить ему, о чем свидетельствует следующее обстоятельство: Его Святейшеству захотелось, чтобы под Ионой в капелле, где уже был герб папы Юлия II, был помещен и его герб, когда же с этой просьбой обратились к Микеланджело, он отказался поместить его там, не желая обидеть Юлия и Климента и отговариваясь тем, что герб туда не идет, с чем согласился и Его Святейшество, дабы не вызывать его неудовольствия, отлично понимая хорошие качества этого человека, когда он добивался честности и справедливости, ни с кем не считаясь и никому не угождая, с чем этим людям редко приходится встречаться.
Итак, Микеланджело распорядился соорудить над стеной этой капеллы хорошо сложенный из отборных, хорошо обожженных кирпичей козырек, которого там прежде не было, и пожелал, чтобы он от верхнего ее края выступал на пол-локтя и чтобы таким образом не могла собираться наверху пыль и всякая грязь. В подробности замысла и композиции этой истории вдаваться не буду, ибо так часто изображалась она на картинах и гравюрах, и больших и малых, что нет необходимости терять время на ее описание. Достаточно увидеть, что намерение этого необыкновенного человека не стремилось ни к чему другому, кроме как к написанию совершенной и самой соразмерной композиции человеческого тела в самых различных его положениях; и не только этого, но вместе с тем и волнения страстей и духовной удовлетворенности – и в этом он превзошел всех близких к нему художников; и указал путь к большой манере и к изображению обнаженного тела и обнаружил все, что он познал в трудностях рисунка, и в конце концов он раскрыл путь ко всем возможностям искусства в главном его задании, каким является человеческое тело; стремясь к одной лишь этой цели, он оставил в стороне красоту красок, причуды и новые выдумки в некоторых мелочах и тонкостях, то, чем многие другие живописцы, в чем есть, может быть, некоторый смысл, полностью не пренебрегают. Недаром кое-кто, не обладая основательностью в рисунке, пытается разнообразием теней и оттенков красок и причудливыми, разнообразными и новыми выдумками, в общем идя путем совершенно другим, занять свое место среди первых мастеров. Но Микеланджело, неизменно прочно утвердившийся в самой глубине искусства, показал, как достичь совершенства тем, кто достаточно сведущ.
Вернемся же к самому изображению. Микеланджело выполнил уже более трех четвертей работы, когда пожаловал папа Павел, дабы взглянуть на нее. И вот, когда мессера Бьяджо Мезенского, церемониймейстера и человека щепетильного, сопровождавшего папу в капеллу, спросили, как он ее находит, он заявил, что совершенно зазорно в месте, столь благочестивом, помещать так много голышей, столь непристойно показывающих свои срамные части, и что работа эта не для папской капеллы, а для бани или кабака. Микеланджело это не понравилось, и как только тот ушел, он в отместку изобразил его с натуры, не глядя на него, в аду в виде Миноса, ноги которого обвивает большая змея, среди груды дьяволов. И как ни упрашивал мессер Бьяджо и папу, и Микеланджело, чтобы он убрал его, он так и остался там на память таким, каким мы и теперь его видим.
В это время ему случилось упасть, не очень, впрочем, высоко, с подмостьев этого произведения, и он повредил себе ногу, но, несмотря на боль, он из упрямства никому не позволял лечить себя. Тогда еще был в живых врач с причудами, магистр Баччо Ронтини, флорентинец, друг Микеланджело, весьма ценивший его талант, пожалев его, он в один прекрасный день постучался к нему в дом, но, не получив ответа ни от соседей, ни от него самого, все же поднялся к нему некими потайными путями и, пройдя по комнатам, в конце концов до него добрался и нашел его в отчаянном состоянии. И тогда магистр Баччо порешил не покидать его и от него не отходить, пока тот не поправится. Выздоровев от болезни, он воротился к работе и, не прерывая ее больше, закончил все в несколько месяцев, придав такую мощь своей живописи, что оправдал этим слова Данте: «Мертвые там мертвы, живые совсем как живые» – такие в ней страданья грешников и радость праведников.
И вот, когда Страшный суд этот был раскрыт, он показал, что победил не только первейших художников, там работавших, но захотел победить и самого себя, создавшего потолок, который был им так прославлен, ведь уже в нем он, далеко опередив самого себя, действительно себя превзошел; однако здесь, представив себе весь ужас этого дня, он изображает, к еще большей муке неправедно живших, все орудия страстей Иисуса Христа, заставляя несколько обнаженных фигур поддерживать в воздухе крест, столб, копье, губку, гвозди и венец в различных и невиданных движениях, с большими трудностями доведенных им до конечной легкости. Там и сидящий Христос с ликом страшным и грозным обращается к грешникам, проклиная их и неминуемо повергая в великий трепет Богоматерь, которая, плотно завернувшись в плащ, слышит и видит весь этот ужас. Они окружены бесчисленным множеством фигур пророков, апостолов, где выделяются Адам и св. Петр, которые, как полагают, изображены там: первый как зачинатель рода людского, второй же как основатель христианской религии. Под Христом великолепнейший св. Варфоломей, показывающий содранную с него кожу. Там же равным образом обнаженная фигура св. Лаврентия, а сверх того бесчисленное множество святых мужей и жен и других фигур мужских и женских кругом, рядом и поодаль, и все они лобызаются и ликуют, удостоившись вечного блаженства по милости Божией и в награду за их деяния. У ног Христа семь ангелов, описанных евангелистом св. Иоанном, которые, трубя в семь труб, призывают на Суд, и лики их так ужасны, что волосы встают дыбом у смотрящих на них; в числе других два ангела, у каждого из которых в руках книга жизней; и тут же, по замыслу, который нельзя не признать прекраснейшим, мы видим на одной из сторон семь смертных грехов, которые в обличье дьяволов дерутся и увлекают в ад стремящиеся к небу души, изображенные в красивейших положениях и весьма чудесных сокращениях. Не преминул он показать миру, как во время воскресения мертвых последние снова получают свои кости и свою плоть из той же земли и как при помощи других живых они возносятся к небу, откуда души, уже вкусившие блаженство, спешат к ним на помощь; не говоря даже о всех тех многочисленных соображениях, которые можно считать необходимыми для такого произведения, как это, – ведь он приложил немало всяких трудов и усилий, как это, в частности, особенно ясно сказывается в ладье Харона, который отчаянным движением подгоняет веслом низвергнутые дьяволами души совсем так, как выразился любимейший им Данте, когда писал:
А бес Харон сзывает стаю грешных,
Вращая взор, как уголья в золе,
И гонит их, и бьет веслом неспешных.
И вообразить себе невозможно разнообразие лиц дьяволов, чудовищ поистине адских. В грешниках же видны и грех и вместе с тем страх вечного осуждения. А помимо красоты необыкновенной в творении этом видно такое единство живописи и ее выполнения, что кажется, будто написано оно в один день, причем такой тонкости отделки не найдешь ни в одной миниатюре, и, по правде говоря, количество фигур и потрясающее величие этого творения таковы, что описать его невозможно, ибо оно переполнено всеми возможными человеческими страстями, и все они удивительно им выражены. В самом деле, гордецов, завистников, скупцов, сладострастников и всех остальных им подобных любой духовно одаренный человек легко должен был бы распознать, ибо при их изображении соблюдены все подобающие им отличия как в выражении лица, так и в движении и во всех остальных естественных их особенностях: а это, хотя оно нечто чудесное и великое, не стало, однако, невозможным для этого человека, который был всегда наблюдательным и мудрым, видел много людей и овладел тем познанием мирского опыта, которое философы приобретают лишь путем размышления и из книг. Так что человек толковый и в живописи сведущий видит потрясающую силу этого искусства и замечает в этих фигурах мысли и страсти, которых никто, кроме него, никогда не изображал. Он же опять-таки увидит здесь, каким образом достигается разнообразие стольких положений в различных и странных движениях юношей, стариков, мужчин и женщин, в которых перед любым зрителем обнаруживается потрясающая сила его искусства, сочетаемая с грацией, присущей ему от природы. Потому-то он и волнует сердца всех неподготовленных, равно как и тех, кто в этом ремесле разбирается. Сокращения там кажутся рельефными, обобщая же их, он достигает их мягкости; а тонкость, с какой им написаны нежные переходы, показывает, каковы поистине должны быть картины хорошего и настоящего живописца, и одни очертания вещей, повернутых им так, как никто другой сделать бы не мог, являют нам подлинный Суд, подлинное осуждение и воскрешение.
И это в нашем искусстве служит примером великой живописи, ниспосланной богом земнородным, дабы видели они, как рок руководит спустившимися на землю умами высшего порядка, впитавшими в себя благодать и божественную мудрость. Творение это сковывает и полонит всех тех, кто возомнил, что владеет искусством; любой потрясающий нас художник, как бы он ни был вооружен рисунком, сотрясается и устрашается при виде проведенных им очертаний какого бы то ни было изображения; когда рассматриваешь труды его рук, чувства наши приходят в замешательство при одной мысли о том, каковы, по сравнению с таким образцом, могут быть другие живописные произведения, уже созданные или еще не созданные. И поистине счастливым может почитаться тот, кто видел это, счастлива память о том – поистине поразительное чудо нашего века. Превыше же всего блажен и удачлив ты, Павел III, раз что Господь допустил, чтобы под твоим покровительством заранее оправдались те похвалы, которые перья писателей в свое время воздадут его памяти и твоей особе! Насколько же твои заслуги обогащаются его доблестями! Конечно, художники удостоились наилучшей судьбы тем, что они родились в этом столетии, увидев разрыв завесы тех трудностей, которые могли быть преодолены и какие только можно себе представить в изданных им живописных, скульптурных и архитектурных произведениях.
Трудился он над завершением этого творения восемь лет и открыл его (как мне кажется) в 1541 году, в день Рождества, поразив и удивив им весь Рим, более того – весь мир; да и я, находившийся в Венеции и отправившийся в том году в Рим, чтобы его увидеть, был им поражен.
Как было сказано в жизнеописании Антонио да Сангалло, папа Павел приказал построить в том же этаже и по образцу капеллы Николая V некую капеллу, именуемую «Паолиной», решив, чтобы Микеланджело написал в ней две пространные истории на двух больших картинах; на одной из них он написал Обращение св. Павла с парящим в воздухе Иисусом Христом и множеством обнаженных ангелов в великолепнейших поворотах; а внизу – как лежит на земле упавший с лошади, ошеломленный и напуганный Павел в окружении своих солдат, из которых одни пытаются его поднять, другие же, ошеломленные голосом и сиянием Христа, ослепленные и испуганные, убегают в различных и прекрасных положениях и движениях, а убегающая лошадь словно увлекает за собою в быстроте своего порыва всех тех, кто старается ее удержать; и вся эта история выполнена с исключительным мастерством и искусством рисунка. На другой изображено Распятие св. Петра, который пригвожден к кресту в обнаженном виде; это – редкостная фигура: видно, как распинающие ее, выкопавшие в земле углубление, собираются поднять крест так, чтобы распятый оказался вверх ногами; там заключено множество примечательных и прекрасных наблюдений. Как уже говорилось в другом месте, Микеланджело достиг совершенства в своем искусстве собственными силами, ибо здесь нет ни пейзажей, ни деревьев, ни построек, как не видать и того разнообразия и прелестей искусства, к которым он ведь никогда и не стремился как художник, не желавший, быть может, унизить свой великий гений подобными вещами.
Это были последние живописные работы, написанные им в семидесятипятилетнем возрасте и, как он мне сам говорил, с большим напряжением, ибо по прошествии определенного возраста живопись, и в особенности фресковая, становится искусством не для стариков.
Микеланджело распорядился, чтобы, пользуясь его рисунками, превосходнейший живописец Перино дель Вага отделал потолок лепниной, а многое бы и расписал, и такова же была воля папы Павла III, который потом отложил работу надолго, и ничего и сделано не было: так многое остается незавершенным иной раз по вине нерешительных художников, иной же раз, когда малоревностные правители их не подгоняют.
Когда папа Павел приступил к работам по укреплению Борго, он созвал для их обсуждения вместе с Антонио да Сангалло много других господ и пожелал, чтобы в нем принял участие и Микеланджело, так как ему было известно, что укрепления вокруг холма Сан Миньято во Флоренции были возведены по его указаниям; и после долгих пререканий спросили и его мнение. Но его взгляды противоречили взглядам Сангалло и многих других и он сказал об этом прямо; на что Сангалло ему сказал, что его дело скульптура и живопись, а не строительство крепостей. Микеланджело ответил, что в этом деле познаний у него мало, но что он долгое время размышлял об этом и имел собственный опыт и ему кажется, что он знает теперь больше, чем когда-либо знал тот и все его семейство, и в присутствии всех он показал, как много тот наделал ошибок. Так слово за слово продолжались споры, пока папа не приказал замолчать; и не прошло много времени, как Микеланджело принес рисунок всех укреплений Борго, открывший глаза всем, кто позднее там проектировал и строил; по этой причине остались недостроенными ворота Санто Спирито, строительство которых по проектам Сангалло близилось к концу.
Дух и талант Микеланджело не могли оставаться без дела, а так как писать он уже не мог, он принялся за глыбу мрамора, чтобы высечь из нее четыре круглые статуи, превышающие рост живых людей, создав Мертвого Христа для собственного удовлетворения и препровождения времени, и, как он сам говорил, потому, что работа молотком сохраняет в его теле здоровье. Этого Христа, снятого с креста, держит Богоматерь, подхватывая же его снизу, ей с усилием помогает стоящий в ногах Никодим, которому, в свою очередь, помогает одна из Марий, видя, что силы матери иссякают и что, побежденная скорбью, она не выдержит. Мертвого же тела, подобного телу Христа, не увидишь нигде: падая с расслабленными членами, оно в своем положении совершенно отлично не только от других изображавшихся им мертвых тел, но и от всех когда-либо изображавшихся: работа трудная, редкая – из одного куска и поистине божественная; и она, как будет сказано ниже, осталась незавершенной и претерпела много невзгод, хотя и хотелось ему, чтобы она стала его надгробием перед алтарем, где он собирался ее поставить.
Случилось так, что в 1546 году умер Антонио да Сангалло, поэтому, ввиду отсутствия руководителя строительством собора Св. Петра, у представителей этого строительства перед папой возникли разные предложения, кому бы его поручить. В конце концов Его Святейшество решил, по внушению, как мне кажется, самого Бога, послать за Микеланджело, и когда ему было предложено занять место Сангалло, он отказался, заявив, дабы избежать этой обузы, что архитектура собственно, не его искусство. Наконец, так как уговоры не помогали, папа приказал ему согласиться. Тогда, к величайшему своему неудовольствию и против своей воли, пришлось ему взяться за это дело. И в один прекрасный день, когда он отправился в собор св. Петра, чтобы взглянуть на деревянную модель, которую сделал Сангалло, и осмотреть строительство, он встретил там всю сангалловскую свору, которая, подступив к нему, ничего лучшего не нашла, как заявить Микеланджело, что они, мол, радуются тому, что руководство строительством поручено ему и что модель это – луг, на котором всегда можно будет пастись. «Правду вы говорите», – ответил им Микеланджело, желая намекнуть (о чем он как-то признался одному из своих друзей), что он имеет в виду баранов и быков, ничего в искусстве не смыслящих. И часто при всех говорил он позднее, что Сангалло сделал свою модель подслеповатой и что в ней снаружи слишком много ордеров колонн, наставленных одни над другими, и что столько выступов, шпилей и мелких членений делают ее скорее похожей на немецкую постройку, чем на добрый древний способ строительства или на изящную и красивую современную манеру; а кроме того, что для завершения ее можно было бы сберечь пятьдесят лет во времени и более триста тысяч скудо расходов и придать ей больше величия, просторности и легкости и большую правильность ордера, большую красоту и большее удобство, что он и показал впоследствии своей моделью, придав ей ту форму, которую мы видим ныне в завершенном произведении, и доказал, таким образом, что то, что он говорил, было истиннейшей правдой. Модель эта стоила ему двадцать пять скудо и была сделана в пятнадцать дней, а модель Сангалло обошлась, как говорилось, в четыре тысячи и создавалась многие годы; а из сопоставления и того, и другого способа выяснилось, что первое строительство было лавочкой и доходным местом и что его затягивали преднамеренно, чтобы не довести до конца. Порядочному человеку, каким был Микеланджело, приемы эти не нравились, и, чтобы покончить с ними, он, в то время как папа заставлял его принять на себя должность архитектора этой постройки, заявил им в один прекрасный день открыто, что они по договоренности между дружками прилагали все старания, чтобы не допустить его до этой должности, ведь, если бы ему это все же было поручено, он никого из них на этом строительстве не потерпит. Можно себе представить, как восстановили против него эти слова, сказанные при всех, и явились причиной того, что он возбудил против себя ненависть, возраставшую с каждым днем, когда увидели, что он меняет все и внутри, и снаружи, и не стало ему больше житья, так как каждый день выискивались различные новые способы доставить ему неприятности, о чем будет рассказано на своем месте.
Папа Павел издал наконец именной указ, в котором назначил его начальником строительства с неограниченными полномочиями, на основании которого он мог строить и разрушать уже построенное, расширять и сокращать и изменять по своему усмотрению все, что только заблагорассудится, и приказал, чтобы все управление строительством подчинялось его распоряжениям. Тогда, убедившись в таком доверии к нему и вере в него со стороны папы, Микеланджело, дабы показать свою добрую волю, пожелал, чтобы в указе было объявлено, что он служит на строительстве из любви к Богу и без какого-либо вознаграждения. Впрочем, папа еще раньше подарил ему переправу через реку в Парме, которая приносила ему до шестисот скудо, но которой он лишился со смертью герцога Пьерлуиджи Фарнезе, получив взамен малодоходную канцелярскую должность в Римини, чем видимо пренебрегал, не говоря уже о том, что папа неоднократно посылал ему на строительство деньги; однако он ни разу их не принял, как о том свидетельствует мессер Алессандро Руффини, который тогда был папским камергером, и мессер Пьер Джованни Алиотти, епископ города Форли.
Наконец папа одобрил модель, сделанную Микеланджело, по которой собор Св. Петра становился меньше, но в то же время и величественнее, к удовлетворению всех, понимающих толк, несмотря на то, что некоторые, которые считаются знатоками (но в действительности таковыми не являются) ее не одобряют. Он нашел, что четыре главных столба, сооруженных Браманте и оставленных нетронутыми Антонио да Сангалло, несущих тяжесть купола, были слабы, и он их частично расширил, пристроив сбоку две витые или винтовые лестницы с пологими ступеньками, по которым вьючные животные доставляли материалы до самого верха, а также и люди могут подниматься по ним верхом на лошади до верхнего уровня арок. Главный карниз из травертина он обвел кругом над арками и получил нечто чудесное, изящное и весьма отличное от остальных карнизов, так что лучшего в этом роде и не сделать. Он начал выводить две большие ниши средокрестия, а там, где ранее, по планам Браманте, Бальдассаре и Рафаэля, как об этом уже было рассказано, строились восемь табернаклей в сторону кладбища, которые позднее продолжал строить и Сангалло, Микеланджело сократил число их до трех, внутри же устроил три капеллы, перекрыв их травертиновым сводом с рядом свободно пропускающих окон различной формы и потрясающих размеров. Все это строится и издается в гравюрах, и не только все сделанное Микеланджело, но также и Сангалло, и потому за ненадобностью описывать этого не собираюсь. Достаточно будет сказать, что он приказал с величайшей тщательностью приступить ко всем тем частям, где в постройку вносились изменения, с целью придать ей такую в высшей степени незыблемую устойчивость, чтобы никто другой никогда не смог бы что-либо в ней изменить: предусмотрительность, достойная мудрого и осторожного таланта, ибо недостаточно сделать хорошо, пока нет уверенности; ведь самомнение и пылкость тех, кто мнит себя знающими, раз поверили больше их словам, чем их делам, иной раз и покровительство людей непонимающих, все это способно породить большие неприятности.
Римский народ возымел намерение, с соизволения этого папы, придать ту или иную красивую, полезную и удобную форму Капитолию и снабдить его ордерами, подъемами, пандусами и лестницами и обрамив его, для украшения этого места, древними статуями, которые там имелись. По поводу этого обратились за советом к Микеланджело, сделавшего для них красивейший и очень богатый проект: на нем, с той стороны, где заседают сенаторы, а именно выходящей на восток, он поместил травертиновый фасад и подъем с лестницами, которые поднимаются с двух сторон, встречаясь на площадке, откуда ведет вход прямо в залу названного дворца, и которые он снабдил богатыми заворотами, сплошь уставленными разнообразными балюстрадами, служащими перилами и парапетами. А спереди для обогащения этого фасада он поместил две древние лежащие мраморные реки на соответствующих основаниях, одна из них Тибр, другая же Нил, в девять локтей каждая; произведения эти редкостные; а между ними, в большой нише, должен находиться Юпитер. Далее, на южной стороне, той, где дворец Консерваторов, он, чтобы выправить его, задумал богатый и разнообразный фасад с лоджией внизу, заполненный колоннами и нишами для множества древних статуй, а кругом ее украшают разные по формам двери и окна, часть которых уже сделана; насупротив же этого фасада должен быть под Арачели такой же, выходящий на север; а впереди, с западной стороны, подъем в виде бастиона, который будет пандусом с оградой или парапетом с балясинами, там и будет расположен главный вход с ордером и пьедесталами, на которых будут расставлены благородные статуи, которыми ныне так богат Капитолий. Посредине площади на цоколе овальной формы поставлен весьма знаменитый бронзовый конь со статуей Марка Аврелия, перенесенный по приказу того же папы Павла с Латеранской площади, куда его поставил Сикст IV. Все это сооружение получается ныне таким красивым, что достойно быть названным в числе достойных произведений, созданных Микеланджело, а в настоящее время оно завершается под руководством римского дворянина мессера Томмазо де'Кавальери, который был и остается одним из лучших друзей Микеланджело, как о том будет сказано ниже.
Папа Павел III, когда еще был жив Сангалло, поручил ему ускорить строительство дворца семейства Фарнезе, и когда пришлось увенчать его главным карнизом, чтобы завершить крышу с наружной стороны, он пожелал, чтобы его сделал Микеланджело по своему рисунку и под собственным руководством. Тот не мог отказать папе, который так его ценил и так осыпал ласками, и потому распорядился сделать деревянную модель части карниза подлинных размеров, то есть в шесть локтей длины, и приказал поместить ее на один из углов дворца, чтобы видно было, каким он должен быть в действительности; а так как он понравился Его Святейшеству и всему Риму, его впоследствии и закончили в той части его, которая теперь видна, и вышел он самым красивым и сложным из всех когда-либо виденных, как древних, так и новых. И по этой причине, когда Сангалло умер, папа пожелал, чтобы названное строительство было равным образом поручено Микеланджело, которым и было сделано там большое мраморное окно с прекраснейшими колоннами из пестрого мрамора над главным входом во дворец, с большим, очень красивым и сложным мраморным гербом основателя дворца – папы Павла III. Внутри же он продолжал строительство двора, надстроив над первым ордером еще два ордера с самыми красивыми, разнообразными и изящными окнами, украшениями и венчающим карнизом, когда-либо виданными; и потому благодаря трудам и гению этого человека двор этот стал ныне красивейшим двором Европы. Он же расширил и увеличил главную залу и украсил ордером передний вестибюль, где, пользуясь сложными и новыми способами применения циркуля, он определил полуовальную форму свода этого вестибюля. В том же году в термах Антонина была найдена древняя мраморная группа в семь локтей длиной и, шириной, в которой древними был высечен Геркулес на горе, ухвативший за рога быка, вместе с другой помогающей фигурой, а вокруг этой горы расположены разные фигуры пастухов, нимф и других живых существ (произведение это, красоты поистине исключительной, в котором в одной цельной глыбе, без добавочных кусков, видны фигуры, совершенные настолько, что решено было воспользоваться им для какого-нибудь фонтана); Микеланджело посоветовал перевезти группу во второй двор и там восстановить ее так, чтобы из нее тем самым извергалась вода; все это было одобрено, и она до сих пор тщательно восстанавливается для этой цели синьорами Фарнезе. Тогда же по указаниям Микеланджело должен был в этом направлении быть переброшен мост через реку Тибр, по которому можно было перейти прямо из упоминавшегося палаццо Фарнезе в затибрскую часть, в другой их сад и к другому их дворцу, так чтобы прямо от главного входа, выходящего на Кампо ди Фьоре, одним взглядом можно было окинуть двор, фонтан, улицу Джулиа и мост, а также красоты второго прекрасного сада, вплоть до другого входа с Затибрской улицы: все это достойно и названного первосвященника, и таланта, рассудительности и замысла Микеланджело.
Так как в 1547 году умер фра Бастьяно дель Пьомбо, венецианец, и так как папа Павел собирался восстанавливать для своего дворца упоминавшиеся древние статуи, Микеланджело охотно стал покровительствовать миланскому скульптору Гульельмо делла Порта, юноше, подававшему надежды, которого направил к Микеланджело вышеназванный фра Бастьяно. Так как его работы нравились Микеланджело, он представил его папе для приведения в порядок названных статуй, и дело пошло так хорошо, что по настояниям Микеланджело ему была передана и должность дель Пьомбо. Гульельмо восстановил статуи в таком виде, каковы они и теперь во дворце, но присоединился позднее к врагам Микеланджело, позабыв об его благодеяниях.
В 1549 году приключилась смерть Павла III, и после того как папой был избран Юлий III, кардинал Фарнезе распорядился, чтобы руками фра Гульельмо была создана большая гробница его родича, папы Павла; фра Гульельмо задумал поставить ее в Сан Пьетро под первой аркой нового храма, той, что под куполом, но это нарушало план всей церкви, да и гробница была действительно не на месте; а так как Микеланджело дал разумный отзыв, что она не могла и не должна была там стоять, монах возненавидел его, считая, что он поступает так из зависти. Однако позднее он прекрасно понял, что тот был прав и что сплоховал он и, имея для этого возможности, гробницы не закончил, как будет об этом сказано в другом месте. И я это подтверждаю, так как в 1550 году я приехал по приказу Юлия III в Рим на папскую службу и с удовольствием, чтобы угодить и Микеланджело, принял участие в совещании по этому поводу, на котором Микеланджело советовал поставить гробницу в одну из ниш, туда, где теперь колонна одержимых, ибо там ее место, я же старался склонить Юлия III к решению поставить в соответствии с этой гробницей в другую нишу собственную свою гробницу, в таком же роде, как и у папы Павла; монах против этого возражал, вследствие чего он свою так и не закончил, гробница же другого первосвященника не была начата, и все это предсказал Микеланджело.
В том же году папа Юлий занялся сооружением в церкви Сан Пьетро а Монторио мраморной капеллы с двумя надгробиями для своего дяди Антонио, кардинала де'Монти, и для мессера Фабиано, деда папы и первооснователя величия знаменитого этого семейства. После того как рисунки и модели капеллы сделал Вазари, папа Юлий, который всегда высоко ставил талант Микеланджело и любил и Вазари, пожелал, чтобы они друг с другом договорились о цене. Вазари же умолил папу, чтобы Микеланджело возглавил это дело; и в то время как Вазари предлагал поручить резные работы Симону Моске, а статуи Рафаэлю Монтелупо, Микеланджело со своей стороны советовал не делать там резной листвы, тем более на обломках каменной кладки, так как, по его мнению, там, где мраморные фигуры, ничего другого быть не должно. Вазари усомнился в этом, опасаясь, как бы работа не вышла слишком бедной; в действительности же позднее, когда он увидел ее законченной, он признался, что тот был прав, и даже очень. Микеланджело не хотел, чтобы Монтелупо делал статуи, убедившись, насколько он сплоховал, когда делал статуи для гробницы Юлия II, и скорее пошел на то, чтобы заказ был передан Бартоломео Амманати, которого предложил Вазари, хотя Буонарроти и был особенно восстановлен против Амманати и Нанни ди Баччо Биджи по пустяковой, впрочем, причине: действительно, в юности, побуждаемый больше любовью к искусству, чем желанием его обидеть, они, проникнув к нему в дом, очень ловко похитили у Антонио Мини, ученика Микеланджело, немало листов с рисунками, которые позднее через суд при правительственной Восьмерке были ему полностью возвращены, да и сам он через своего друга мессера Джованни Норкьяти, каноника Сан Лоренцо, передал, что другого наказания и не требует.
Когда Микеланджело рассказал об этом Вазари, тот, смеясь, заметил, что, по его мнению, они не заслужили никакого порицания и что и он, если бы смог, не только похитил бы у него кое-какие рисунки, но отнял бы у него все, что сумел бы получить из выполненного им собственноручно, с единственной целью научиться искусству, так как вообще следует поощрять тех, кого тянет к мастерству, и даже вознаградить их; ведь не следует же поступать с ними так же, как с теми, кто ворует деньги, имущество и другие ценные предметы. Так дело было обращено в шутку.
Вследствие всего этого приступили к работе в Монторио, и в том же году Вазари и Амманати занимались перевозкой из Каррары в Рим мрамора для названных работ. В это время Вазари виделся с Микеланджело ежедневно, и в одно прекрасное утро папа, из любви к ним, распорядился, чтобы оба они, объезжая верхом семь церквей, получили, поскольку год был святым, отпущение грехов вдвойне; и вот, объезжая их, они на пути от одной церкви к другой вели множество полезных и прекрасных, к тому же подробных разговоров об искусстве, так что Вазари изложил их в диалоге, который при лучших обстоятельствах будет выпущен в свет вместе с другими, касающимися до искусства, вещами.
В том же году папа Юлий III подтвердил именной указ папы Павла III касательно строительства Сан Пьетро. И хотя о строительстве Сан Пьетро заправилы сангалловской своры наговорили ему много дурного, папа этот не хотел в то время ничего слышать, так как Вазари доказал ему (и это было справедливо), что Микеланджело вдохнул жизнь в эту постройку, и добился у Его Святейшества, что тот не сделает ничего, относящегося к ее проекту, без совета Микеланджело, с которым папа всегда впредь и считался; да на вилле Юлия ничего он не делал, не посоветовавшись с ним; равным образом и в Бельведере, где была перестроена лестница, существующая и ныне на месте полукруглой, выступавшей вперед, поднимавшейся на восемь ступеней и еще на восемь загибавшейся вовнутрь, той самой, которую в большой нише, что посреди Бельведера, выстроил еще Браманте. По рисунку же Микеланджело там была устроена лестница очень красивая, прямая, с перилами из пеперина. В том году Вазари закончил печатание сочинения с жизнеописаниями флорентийских живописцев, скульпторов и зодчих, куда из еще живущих, даже самых старых, он включил жизнь одного лишь Микеланджело, которому и поднес свое сочинение, и тот его принял с большой радостью, ибо воспоминания о многих вещах Вазари внес туда с его слов, как художника старшего и более рассудительного; и не прошло много времени, как Микеланджело, прочитав сочинение, прислал ему свой собственный сонет, который мне тут же хочется привести на память об оказанных им мне любезностях:
И карандаш, и краски уравняли
С благой природой ваше мастерство
И так высоко вознесли его,
Что в ней красы еще прекрасней стали.
Ученого рукой теперь нам дали
Вы новый плод усердья своего
И, не презрев из славных никого,
Нам многих жизней повесть начертали.
Напрасно век, с природой в состязанье,
Прекрасное творит, – оно идет
К небытию в урочный час отлива;
Но вы вернули вновь воспоминанье
О поглощенных смертию – и вот,
Ей вопреки, оно навеки живо.
Вазари уехал во Флоренцию, оставив на Микеланджело заботы о начале строительства в Монторио. В то время консулом флорентийской нации был мессер Биндо Альтовити, большой друг Вазари, который на этом основании сказал ему, что хорошо было бы перенести эти работы в церковь Сан Джованни де'Фьорентини и что он об этом уже говорил с Микеланджело, одобрившим это предложение, и что послужило бы поводом закончить строительство названной церкви. Предложение это понравилось мессеру Биндо, и так как он был весьма близок с папой, он начал его горячо уговаривать, доказывая, насколько лучше было бы соорудить в церкви Сан Джованни де'Фьорентини гробницы и капеллу, которые Его Святейшество заказал для Монторио; к этому он добавлял, что это послужило бы причиной, поводом и побуждением для флорентийской нации принять на себя расходы, необходимые для завершения церкви, а если Его Святейшество соорудит главную капеллу, купцы построят еще шесть капелл, а затем мало-помалу и все остальное. Вследствие чего папа изменил свои намерения и, хотя модель была сделана и цена установлена, отправился в Монторио и послал за Микеланджело, которому Вазари писал каждый день и получал от него ответы по ходу этих дел. Так, об изменении папой решения Микеланджело написал Вазари 1 августа 1550 года, и таковы слова, написанные его рукой:
«Мессер Джорджо, дорогой мой. Зная, что Вы получаете сообщения от находящегося здесь Вашего человека, я не писал Вам ничего по поводу новых фундаментов в Сан Пьетро а Монторио, о том, что папа не пожелал в это вникать. Теперь же могу рассказать Вам следующее, а именно, что вчера утром, отправляясь в названный Монторио, папа послал за мной. Я встретил его на мосту, когда он уже возвращался, и долго с ним беседовал о заказанных гробницах. В конце концов, он заявил мне, что решил поместить названные гробницы не на этом холме, а в церкви флорентинцев. Он попросил меня подготовить мне об этом мнение и рисунок, и я всячески его в этом поддержал, полагая, что таким путем названная церковь будет достроена. Что касается полученных от Вас трех посланий, у меня нет пера для ответа на такие высокие слова. Но если бы мне было дорого быть хотя бы отчасти таким, каким Вы меня изображаете, то это мне было бы дорого только ради того, чтобы у Вас был слуга, чего-то стоящий. Однако я не удивляюсь, поскольку Вы – воскреситель мертвых, ибо Вы удлиняете жизнь живым и обрекаете живших дурно на смерть бесконечную. Без дальних слов я весь, как есть, Ваш Микеланджело Буонарроти в Риме».
Пока тянулись все эти хлопоты и флорентийская нация пыталась собрать деньги, возникли и другие затруднения, поэтому окончательного решения не вынесли и дело так и заглохло. А между тем Вазари с Амманати добыли в Карраре весь требуемый мрамор, и большая часть его была отправлена в Рим в сопровождении Амманати, с которым Вазари написал Буонарроти, чтобы тот узнал от папы, где он желает поместить гробницу, и, получив приказ, приступил к закладке. Получив письмо, Микеланджело тотчас же переговорил с нашим повелителем и написал собственноручно Вазари о таком решении:
«Мессер Джорджо, дорогой мой. Тотчас по приезде сюда Бартоломео я отправился для переговоров к папе, и, убедившись в том, что он снова хочет ставить гробницы в Монторио, договорился с одним из каменщиков из Сан Пьетро. Но об этом узнал «мастер на все руки» и пожелал прислать кого-то из своих, и я, чтобы не перечить тому, у кого в голове ветер, уступил ему, ибо человек он легкомысленный, а мне попадать в какую-нибудь беду не хочется. Короче говоря, о церкви флорентинцев, как мне кажется, нечего больше и думать. Приезжайте скорее и будьте здоровы. Другого ничего не случилось. В день 13 октября 1550 года».
Микеланджело звал «мастером на все руки» епископа города Форли, так как тот брался за любое дело. Будучи папским камерарием, он ведал медалями, драгоценностями, камеями, мелкой бронзовой скульптурой, картинами, рисунками и хотел, чтобы все от него зависело. Микеланджело всячески избегал этого человека, который постоянно действовал вопреки его нуждам, и потому опасался впутаться в какую-нибудь неприятность из-за самомнения этого человека. Достаточно уже того, что флорентийская нация упустила вместе с этой церковью прекраснейшую возможность, которая, бог знает, представится ли ей когда-либо еще; меня же все это огорчило до бесконечности. Мне хотелось вкратце упомянуть об этом, дабы все видели, что человек этот всегда старался оказать поддержку своей нации, друзьям своим и искусству.
Не успел Вазари возвратиться в Рим, как до начала еще 1551 года сангалловская свора устроила целый заговор против Микеланджело, добиваясь того, чтобы папа созвал в Сан Пьетро совещание и собрал строителей и всех, кто этим ведал, дабы доказать ложью и клеветой Его Святейшеству, что Микеланджело испортил здание при возведении там три окна наверху: не зная, как будет выведен свод и опираясь на весьма шаткие доводы, они разъяснили кардиналу Сальвиати-старшему и Марчелло Червино, который позднее стал папой, что Сан Пьетро будет плохо освещаться. И вот, когда все собрались, папа заявил Микеланджело, что, по утверждению уполномоченных, через эту нишу будет проходить мало света. Тот ответил ему: «Я хотел бы выслушать самих уполномоченных». Кардинал Марчелло ответил: «Мы здесь». Тогда Микеланджело обратился к нему с такими словами: «Монсиньор, над упомянутыми окнами в своде, который выведут из травертина, будут пробиты еще три окна». – «Вы никогда нам об этом не говорили», – возразил кардинал; а Микеланджело сказал на это: «Я не обязан и не желаю говорить никому, и даже Его Святейшеству, о том, что я обязан или хочу делать. Ваше дело – доставать деньги и следить за тем, чтобы их не воровали, о проекте же постройки предоставьте заботиться мне». И, обращаясь к папе, он добавил: «Вы видите, святой отец, каковы мои заработки, если же усилия, какие я положил, не приносят душе утешения, значит, даром я теряю и время, и труды». Папа же, который любил его, возложил руки ему на плечи с такими словами: «Вознаграждены будут и душа ваша, и тело, в том не сомневайтесь». А по тому, как сумел он оправдаться, любовь папы возросла к нему безмерно, и он приказал ему и Вазари быть обоим назавтра на вилле Юлия, где вел с ними длинные разговоры, так что они довели эту постройку почти что до той красоты, какой она теперь отличается, и ничего по части проекта ее он не решал и не делал без мнения и суждения Микеланджело. А так как Его Святейшество часто бывал там вместе с Вазари, однажды, когда он находился с двенадцатью кардиналами около источника Аква Верджине, туда прибыл Микеланджело; папа, говорю я, насильно заставил его сесть рядом с собой, хотя тот самым смиренным образом и отказывался; так постоянно и, насколько это было возможно, почитал он его доблесть.
Ему была заказана модель фасада дворца, который Его Святейшество собирался выстроить возле Сан Рокко, намереваясь для остальной части постройки использовать мавзолей Августа; что же касается проекта фасада, то нельзя увидеть ничего более разнообразного, нарядного и нового по манере и распорядку, ибо, как мы это видели и во всех других его работах в области архитектуры, он никогда не подчинялся никаким законам, ни старым, ни новым, как художник, обладавший гением, способным всегда находить нечто новое и невиданное, но нисколько от этого не менее прекрасное. Модель эта, принадлежащая теперь герцогу Козимо деи Медичи, была ему подарена папой Пием IV во время пребывания его в Риме, и он хранит ее вместе с вещами, самыми для него дорогими.
Папа сей уважал Микеланджело так, что постоянно становился на его сторону, когда кардиналы и другие люди пытались его оклеветать, и всегда приказывал навещать его на дому всем художникам, какими бы важными и знаменитыми они ни были. И так его уважал и почитал Его Святейшество, что не решался, дабы не причинить ему докуки, просить его о многом, что и при своем преклонном возрасте Микеланджело мог бы еще сделать.
Еще при папе Павле III Микеланджело начал по распоряжению папы перестройку моста Санта Мариа в Риме, который под действием течения воды и по ветхости своей оседал и разрушался. Микеланджело распорядился переложить и тщательно починить его устои при помощи кессонов; и уже он закончил большую часть работы и израсходовал порядочно денег на лес и травертин, для нее потребовавшиеся. Когда же при Юлии III было создано совещание камеральных клириков для завершения моста и в их среде архитектор Нанни Ди Баччо Биджи предложил закончить работы в короткое время и с малыми расходами, если подряд будет передан ему, его так или иначе поддержали, будто бы желая добра Микеланджело, чтобы снять с него эту тяжесть, ибо он стар и ему все равно, а раз уж дело это стоит, оно никогда до конца доведено не будет. Препираться папе особенно не хотелось, и, не думая о том, что из этого может выйти, он поручил камеральным клирикам, чтобы они позаботились о том, что было их прямой обязанностью, а те передали его без ведома Микеланджело и со всеми материалами на полное усмотрение Нанни, который не занимался укреплением моста, подводя новые фундаменты, а облегчил его вес, чтобы можно было продать большое количество травертина, которым мост был раньше облицован и вымощен и который нагружал его, делая его более прочным, надежным и крепким. Материал этот он заменил гравием и всяким другим мусором, так что внутри и снаружи никаких изъянов заметно не было, а снаружи он устроил перила и всякое другое, и с виду он казался целиком обновленным. Однако все было ослаблено и измельчено настолько, что по прошествии пяти лет, во время половодья 1557 года, мост рухнул, обнаружив недомыслие камеральных клириков и принеся ущерб Риму, последовавший оттого, что не послушались советов Микеланджело, неоднократно предсказывавшего это крушение своим друзьям, а также и мне; я вспоминаю, как мы вместе по этому мосту ехали верхом и он сказал мне: «Джорджо, этот мост под нами дрожит, поскачем скорее, а то он еще обрушится, пока мы по нему едем».
Возвратимся, однако, к тому, о чем говорилось раньше. Когда работы в Монторио, к полному моему удовлетворению, были закончены, я вернулся во Флоренцию на службу герцога Козимо, и было это в 1554 году. Отъезд Вазари огорчил Микеланджело и в равной степени и самого Джорджо, так как враги его ежедневно, то так, то эдак, ему докучали, они неукоснительно писали друг другу ежедневно. Когда же в апреле того же года Вазари известил Микеланджело о том, что у Лионардо, его племянника, родился младенец мужского пола и что был он крещен в присутствии почетной свиты благороднейших женщин, продолжая род Буонарроти, Микеланджело ответил Вазари в таких словах:
«Дорогой друг Джорджо! Послание Ваше доставило мне удовольствие величайшее, так как я убедился, что Вы все-таки не забываете бедного старика, а еще больше тем, что Вы присутствовали на торжестве, Вами описанном, увидев рождение еще одного Буонарроти: за это известие благодарю Вас, как умею и как могу; однако вся эта пышность, право же, очень мне не понравилась, ибо не должен человек смеяться, когда весь мир плачет. И, по моему разумению, не нужно было Лионардо устраивать такой праздник по случаю того, что кто-то родился, и веселье такое следовало сберечь до того дня, когда умрет хорошо поживший жизнь. Не дивитесь тому, что не ответил Вам сразу: сделал я это для того, чтобы не быть похожим на купца. Ибо, скажу я Вам, что если бы заслужил хотя бы одну из тех похвал, которыми Вы меня осыпали в Вашем письме, то мне казалось бы, что, отдаваясь Вам душой и телом, я Вам что-то дал и заплатил лишь самую небольшую часть того, что я Вам должен, однако я ежечасно признаю себя Вашим должником намного больше того, сколько я должен Вам заплатить; а так как я уже стар, надеюсь свести с Вами счеты не в этой, а в другой жизни: потому прошу Вас потерпеть и остаюсь Вашим; здешние же дела – без изменения».
Еще при Павле III герцог Козимо послал Триболо в Рим, чтобы увидеть, удастся ли тому уговорить Микеланджело возвратиться во Флоренцию для завершения ризницы Сан Лоренцо. Но Микеланджело отговаривался тем, что он, состарившись, уже не может возложить на себя тяжесть трудов, и, приводя многочисленные доводы, настаивал на том, что уехать из Рима не может. Тогда Триболо начал в конце концов расспрашивать его о лестнице библиотеки Сан Лоренцо, для которой по указаниям Микеланджело было заготовлено много камня, но не было ни модели, ни даже уверенности в том, какой должна быть ее форма, и хотя и сохранились отметки на земле в кирпичной кладке и кое-какие наброски из глины, все же настоящего и окончательного решения найти не могли. Но, как ни умолял Триболо, ссылаясь и на герцога, тот ничего другого не отвечал, кроме того, что ничего об этом не помнит.
Герцог Козимо приказал Вазари написать Микеланджело с просьбой рассказать, какой же в конце концов должна быть эта лестница; может быть, из дружеского чувства он будет вынужден сообщить что-нибудь такое, благодаря чему она будет закончена, после того, как будет получено его решение.
Вазари написал Микеланджело о том, чего хочется герцогу, и о том, что все предстоящее строительство будет касаться его как исполнителя, что он выполнит это с тем старанием, которое, как это знал Микеланджело, он прилагал к его вещам, как к своим собственным. В ответ на это Микеланджело распорядился, как следует строить лестницу, в следующем собственноручном письме от 28 сентября 1555 года:
«Мессер Джорджа, дорогой друг. Что касается лестницы библиотеки, о которой столько мне говорили, поверьте мне, что, если бы я мог вспомнить, как ее задумал, я бы не заставил просить себя. Мне, правда, представляется в уме, как во сне, некая лестница, но я не думаю, чтобы она была именно такой, о какой я тогда думал, ибо представляется мне нечто нескладное. Все же сейчас ее опишу: а именно, будто бы взял я несколько овальных ящиков с днищем в одну пальму каждый, но разной длины и ширины, и самый большой и первый я будто поместил на полу на расстоянии от стены с дверью, зависящим от того, какой вы пожелаете сделать лестницу: отлогой или крутой. На первый ящик я положил бы второй, настолько во всех направлениях меньше первого, чтобы он над ним выступал не более того, сколько требуется для подъема ноги, так, чтобы в направлении двери ящики по отношению друг к другу уменьшались и отступали опять-таки ради подъема и чтобы верхняя, самая маленькая, ступень равнялась проему двери. А к описанной овальной части лестницы должны примыкать как бы два крыла с той и с другой стороны, со столькими же ступенями, но не овальными. Средняя из этих лестниц предназначается для государя – от середины до верха названной лестницы, а повороты названных крыльев должны возвращаться к стене, от середины же вниз до самого пола они должны, как и вся лестница, отстоять от стены приблизительно на три пальмы так, чтобы нижняя часть помещения не была занята ничем и оставалась свободной со всех сторон. Я описываю смешные вещи, но отлично знаю, что вы кое-что полезное в них найдете».
В те же дни Микеланджело написал Вазари также и о том, что после смерти Юлия III и избрания Марцелла враждебная ему свора снова начала докучать ему из-за избрания нового первосвященника. Узнав об этом, герцог, которому такие приемы очень не нравились, приказал написать Джорджо и передать ему, что тот должен уехать из Рима и переселиться во Флоренцию, где названный герцог не хочет от него ничего, как только время от времени с ним советоваться по поводу выполняющихся по его проектам архитектурных работ, и что от названного государя он будет получать все, чего только пожелает, не делая ничего собственноручно. И снова через мессера Лионардо Мариноцци, тайного советника герцога Козимо, к нему были направлены послания от Его Превосходительства, а также и от Вазари. И вот, когда умер Марцелл и папой был избран Павел IV, который сразу же, когда тот явился приложиться к его туфле, сделал ему много предложений, желая закончить строительство Сан Пьетро, и напомнил ему, что им, по-видимому, были уже приняты на себя обязательства, Микеланджело сдержал свое слово, и, придумав какие-то извинения, он написал герцогу, что в настоящее время перейти к нему на службу не может, а также отправил письмо Вазари в следующих собственных его выражениях:
«Мессер Джорджо, друг любезный. Призываю Бога в свидетели, что против моей воли с применением величайшего насилия я был вовлечен десять лет тому назад папой Павлом III в строительство Сан Пьетро в Риме и если бы я до сегодняшнего дня продолжал работать в названном строительстве, так как оно велось тогда, я бы добился такого его состояния, что мне и самому захотелось бы отправиться восвояси; но из-за нехватки денег оно сильно затянулось и затягивается именно тогда, когда дело дошло до частей его самых сложных и трудных, так что если я теперь его брошу, это будет значить только то, что я, к величайшему своему стыду погрешив, лишусь награды за труды, которые я переносил в течение названных десяти лет из любви к Господу. Я Вам все это наговорил в ответ на Ваше письмо и так как я получил письмо от герцога. Меня очень удивило, что Его Высочество соизволил написать мне так ласково. Благодарю за это Господа и Его Превосходительство как умею и как могу. Я теряю нить, ибо лишился и памяти, и мозгов, и писать мне очень трудно, ибо не в этом мое искусство. В заключение хочу, чтобы Вы поняли, что выйдет, если я брошу упоминавшееся строительство и уеду отсюда: прежде всего обрадуются кое-какие воры, для строительства же это будет причиной его крушения, а может быть, и его прекращения навсегда».
Далее, чтобы оправдаться перед герцогом, Микеланджело писал Джорджо о том, что в Риме он имеет в своем распоряжении и дом, и много имущества не на одну тысячу скудо, а кроме того, что ему отравляют жизнь и почки, и бок, и камни, как у всех стариков, как это может засвидетельствовать его врач магистр Эрельда, которому он воздает хвалы на втором месте после Бога за дарованную жизнь, и поэтому он по названным причинам и не мог приехать, и что в конце концов у него хватит духу только на то, чтобы умереть. Он просил Вазари, как и во многих других, сохранившихся у него его письмах, попросить прощения у герцога, а помимо этого (как я уже говорил) он писал и самому герцогу, перед ним оправдываясь: будь Микеланджело в состоянии сесть на лошадь, он прибыл бы во Флоренцию тотчас же. Так его трогала нежность и любовь его к герцогу, что, как я полагаю, он после этого не смог бы покинуть Флоренцию и вернуться обратно в Рим, а между тем ему нужно было работать на многих участках упомянутого строительства и закончить его так, чтобы в нем ничего уже нельзя было изменить.
В это время кто-то сообщил ему, что папа Павел IV собирается поручить ему привести в порядок стену капеллы со Страшным судом, ибо, как он заявил, фигуры, там изображенные, слишком непристойно выставляли свои срамные части.
Когда же мнение папы довели до сведения Микеланджело, он на это ответил: «Скажите папе, что дело это небольшое и порядок навести там нетрудно. А он пусть наведет порядок во всем мире, навести же порядок в живописи можно быстро».
У Микеланджело отняли должность управителя канцелярии в Римини (он так и не захотел поговорить с папой, который ничего об этом не знал), должность же эту перехватил у него папский кравчий, которому хотели платить сто скудо в месяц за счет строительства Сан Пьетро; но когда Микеланджело на дом принесли ежемесячную получку, он ее не принял. В том же году приключилась смерть Урбино, его слуги, или же, говоря вернее, его товарища, каковым его можно назвать и как он сам его называл: он поступил к Микеланджело в 1530 году во Флоренции, когда кончилась осада и когда ученик его Антонио Мини уехал во Францию; услуги он оказывал Микеланджело огромнейшие, и за двадцать шесть лет службы и дружбы Микеланджело обогатил его, любил же он его так, что во время его болезни он, несмотря на старость, ходил за ним и спал ночью не раздеваясь, охраняя его. Поэтому после его смерти Вазари прислал письмо, чтобы утешить Микеланджело, на что получил нижеследующий ответ:
«Мессер Джорджо, дорогой мой. Писать мне трудно, но, в ответ на письмо Ваше, кое-что все же расскажу. Вы знаете, как умер Урбино: было это для меня от Бога величайшей милостью, несмотря на то, что горе мое было тяжким и скорбь бесконечной. Милость же состояла в том, что так же как живя он поддерживал и мою жизнь, так и умирая он научил и меня умирать не с отвращением к смерти, а со стремлением к ней. Был он при мне двадцать шесть лет и показал себя и редкостным, и верным, и вот теперь, когда я обогатил его и уповал на то, что будет он опорой и отдохновением моей старости, он от меня ушел, и не осталось мне другой надежды, как только свидеться с ним в раю. И для меня это было ознаменовано Господом в счастливейшей смерти, ему дарованной, ибо гораздо горше, чем умереть, было ему оставить меня в этом предательском мире со столькими невзгодами, хотя большая моя часть ушла вместе с ним и не осталось мне ничего, кроме бесконечной горести. Остаюсь преданный Вам».
При Павле IV он был занят по укреплениям Рима в разных частях города; привлекался к этому и Саллустио Перуцци, которому, как говорилось в другом месте, папа этот поручил возвести ворота замка св. Ангела, ныне наполовину разрушенные. Он занимался также расстановкой там статуй, осматривал модели скульпторов и поправлял их. В это время к Риму подходило французское войско, и Микеланджело считал, что городу придется плохо. Тогда, вместе с Антонио Франчезе из Кастель Дуранте, которого, умирая, Урбино оставил ему в доме в качестве слуги, Микеланджело решил бежать из Рима; и тайком отправился в горы Сполето, где он посетил некоторые места, населенные отшельниками. В это же время Вазари ему написал и прислал небольшой труд флорентийского гражданина Карло Ленцони, завещанный им перед смертью Козимо Бартоли, с просьбой напечатать его и направить Микеланджело. И как только труд этот был закончен, Вазари и переслал его в эти дни Микеланджело, который, получив его, ответил так:
«Мессер Джорджо, дорогой друг. Я получил книжечку мессера Козимо, которую Вы мне высылаете, и прилагаю при сем благодарность; прошу Вас передать ему таковую, а также мой привет. В эти дни, наряду со многими неприятностями и расходами, я получил большое удовольствие в горах Сполето от посещения отшельников, так что я вернулся в Рим меньше чем наполовину, ибо поистине мир только в лесах и обретаешь. Сказать Вам мне больше нечего; рад, что Вы здоровы, кланяюсь Вам. Сентября 18 дня 1556 года».
Для времяпрепровождения Микеланджело работал почти ежедневно над тем Оплакиванием из четырех фигур, о котором уже говорилось и которое он как раз тогда и разбил по следующим причинам: действительно, в камне было много наждаку и был он твердым, и от резца часто сыпались искры, или возможно, что человек этот судил о себе так строго, что не удовлетворялся никогда тем, что делал; ведь, по правде говоря, из его статуй, в зрелые его годы, закончены лишь немногие, отделанные же до конца были выполнены им в молодости: таковы Вакх, Оплакивание Целительницы лихорадки, флорентийский гигант, Христос из Минервы, и ведь таковые невозможно ни увеличить, ни уменьшить ни на йоту без ущерба для них. Остальные же, такие, как статуи герцогов Джулиано и Лоренцо, Ночь, Аврора и Моисей, не считая двух других, вместе взятые, не достигают одиннадцати; остальные же, говорю я, были не завершены, а таких большинство, ибо и сам он любил говорить, что, если бы его удовлетворяло то, что он делает, он выпускал бы очень мало, а то и вовсе ничего. Отсюда мы видим, насколько он продвинулся вперед в своем искусстве и в своем суждении; достаточно было ему раскрыть статую и обнаружить в ней мельчайшую погрешность, он тотчас же оставлял ее и бросался на другой мрамор, считая, что ему не придется возвращаться к старому; и часто он говаривал, что в этом и была причина, почему он высек так мало статуй и написал так мало картин. Оплакивание это, разбив его, он подарил Франческо Бандини. В то время Тиберио Кальканьи, флорентийский скульптор, очень сдружился с Микеланджело, с которым его познакомили Франческо Бандини и мессер Донато Джаннотти. Навестив однажды Микеланджело в его доме, где находилось и разбитое Оплакивание, он в ходе продолжительной беседы задал ему вопрос, почему он разбил и погубил плод столь дивных трудов, а тот ответил, что виноват в этом несносный Урбино, его слуга, который что ни день понукал его завершить работу, и что, между прочим, отломился там кусок локтя у Мадонны, а он ее и раньше возненавидел, так как очень много пришлось с ней возиться из-за трещины, которая была в камне, и вот, наконец, лопнуло у него терпение, он ее и разбил и хотел совсем все разбить, если бы Антонио, слуга его, не посоветовал подарить ее ему такой, какая она есть. Услышав это, Тиберио рассказал обо всем Бандини, которому хотелось иметь что-нибудь выполненное рукой Микеланджело; тогда Бандини уговорил Тиберио пообещать Антонио двести скудо золотом и сам попросил Микеланджело разрешить Тиберио закончить работу для Бандини по моделям Микеланджело, труды которого даром не пропадут. Микеланджело согласился и сделал им этот подарок. Работу тотчас же оттуда унесли, а Тиберио сложил ее вместе и восстановил не знаю уж сколько ее кусков, но из-за смерти Бандини, Микеланджело и Тиберио она так и осталась незаконченной. В настоящее время ею владеет Пьерантонио Бандини, сын Франческо, на своей вилле в Монтекавалло.
Возвратимся, однако, к Микеланджело. Ему после этого необходимо было найти еще какой-нибудь кусок мрамора, чтобы ежедневно проводить время, занимаясь ваянием: и вот поставили другую глыбу, в которой было уже начато другое Оплакивание, отличное от предыдущего и значительно меньшее по размерам.
На службу к Павлу IV поступил архитектор Пирро Лигорио, который был поставлен во главе строительства Сан Пьетро и который в свою очередь начал мучить Микеланджело, и поговаривали о том, что Микеланджело впал в детство. Поэтому, рассерженный этим, он чуть было не вернулся во Флоренцию, но, пока он все тянул с отъездом, Вазари снова стал донимать его письмами: однако, понимая, насколько он постарел, он, дожив до восемьдесят первого года и переписываясь по-прежнему с Вазари, которому послал много разных сонетов духовного содержания, писал ему, что близко его конец, что нужно понять, куда направлены его мысли, и что, читая его письма, Вазари увидит, что приближается его двадцать четвертый час и что нет в нем мысли, в которой не была бы изваяна его смерть. В одном из своих посланий он писал так: «Да рассудит нас Бог, Вазари, за то, что столько лет Вам докучаю: знаю, что Вы справедливо мне скажете, что стал я стар и выжил из ума, решив сочинять сонеты. Но так как многие говорят, что я впал в детство, я и решил делать то, что мне полагается. По письму Вашему я вижу, как Вы меня любите, и будьте уверены в том, что и мне хотелось бы сложить свои кости рядом с прахом отца моего, как Вы меня о том просите. Но если я отсюда уеду, то это было бы причиной великого бедствия для постройки Сан Пьетро, великим стыдом и величайшим грехом. Когда же постройка будет возведена настолько, что изменить ее будет уже невозможно, тогда, надеюсь, исполню и все то, о чем Вы мне пишете, хотя не грех было бы досаждать иным хапугам, которые ждут не дождутся моего отъезда».
В этом же письме был и следующий, написанный им собственноручно сонет:
Уж дни мои теченье донесло
В худой ладье, сквозь непогоды моря,
В ту гавань, где свои груз добра и горя
Сдает к подсчету каждое весло
В тираны, в боги, вымысел дало
Искусство мне, – и я внимал, не споря;
А ныне познаю, что он, позоря
Мои дела, лишь сеет в людях зло.
И жалки мне любовных дум волненья:
Две смерти, близясь, леденят мне кровь,
– Одна уж тут, другую должен ждать я;
Ни кисти, ни резцу не дать забвенья
Душе, молящей за себя Любовь
Нам со креста простертую объятья.
Из него видно, что он уже готов был отойти к Богу и готов был оставить заботы об искусстве из-за происков враждебных к нему художников и по вине иных начальников этого строительства, которые, по его словам, охотно погрели бы на нем руки. По приказанию герцога Козимо Вазари ответил Микеланджело кратким письмом с уговорами возвратиться на родину и сонетом на те же рифмы.
Микеланджело не прочь был уехать из Рима, но он настолько переутомился и постарел, что хотя он и решил воротиться, как об этом будет сказано ниже, однако желание было сильнее немощной плоти, державшей его в Риме. И случилось так, что в июне 1557 года, после того как он сделал модель травертинового свода, которым перекрывали нишу королевской капеллы, возникла из-за невозможности пользоваться обычным путем ошибка, так как производитель работ вымерил все тело свода одним кружалом, а их нужно было бесчисленное множество. А так как Микеланджело считал Вазари своим другом и доверял ему, он отослал ему собственноручные рисунки со следующими подписями под двумя из них.
«Кружало, помеченное красным, производитель работ счел пригодным для всего тела свода, и только когда он начал переходить к вершине, где свод полукруглый, он заметил ошибку, обусловленную этим кружалом, как это видно здесь на рисунке, по черным пометкам. С этой ошибкой свод настолько продвинут, что придется разбирать много камней, так как в этом своде совсем нет кирпича, но все из травертина, диаметр же кругов имеет двадцать две пальмы без опоясывающего их карниза. Эта ошибка, хотя я и сделал модель, как это я делаю всегда, произошла от моей старости, из-за которой я не мог часто ходить на стройку; и я-то думал, что названный свод уже выведен, а он не будет закончен и за всю эту зиму, и если бы мог я умереть от стыда и горя, уже не было бы меня в живых. Уведомьте, прошу Вас, и герцога, почему я до сих пор не приехал во Флоренцию».
И далее, под другим рисунком, где он нарисовал планы, он написал следующее:
«Мессер Джорджо. Чтобы лучше понять трудность этого свода и проследить его зарождение от самой земли, пришлось разделить его на три свода по высоте нижних окон, которые разделены пилястрами и которые, как Вы видите, наполовину пирамидальны в пределах вершины свода, как и плоскость и стороны остальных сводов. Их пришлось выводить при помощи бесчисленного множества кружал, ибо они так часто меняются со всех сторон и от точки, что твердого правила установить невозможно, а круги и квадраты, которые образуются в их толще, должны уменьшать и увеличивать в стольких направлениях и должны сходиться в стольких точках, что правильный способ определить трудно. Тем не менее при наличии модели, которую, как всегда, делаю, никак нельзя было допускать такой ошибки, вздумав вывести с одним кружалом все эти три оболочки; вот почему и получилось, что приходится со стыдом и убытками столько разбирать и что до сих пор еще разбирают множество камней. Свод, ниши, проемы, как и все нижние части, все – из травертина, что до сих пор в Риме не делалось».
Видя эти неприятности, герцог Козимо разрешил Микеланджело не приезжать во Флоренцию, заявив, что его душевное спокойствие ему дороже и чтобы он во что бы то ни стало продолжал работы в Сан Пьетро и успокоился бы. Поэтому Микеланджело на том же листе написал Вазари, что благодарит герцога как только умеет и может за такую доброту его, добавив: «Пусть Господь надо мной смилостивится, чтобы я мог служить ему своей немощной особой, ибо память и ум мои уже ушли, дожидаясь его в иных краях». Письмо это написано в августе 1557 года. Так Микеланджело узнал, что герцог уважал его жизнь и честь больше, чем он сам, ему поклонявшийся. Все эти письма, и многие другие, менее важные, мы храним у себя, написанные его рукой.
Микеланджело дошел до той точки, когда он видел, что в Сан Пьетро мало что делалось, сам же он уже протянул большую часть фриза над внутренними окнами и над наружными парными колоннами, расставленными по круглому карнизу там, где позднее, как будет сказано дальше, должен быть утвержден купол, так что поддерживавшие его близкие друзья, такие, как кардинал Карпи, мессер Донато Джаннотти, Франческо Бандини, Томмазо де'Кавальери и Лоттино, настаивали на том, чтобы он, видя, что возведение купола задерживается, сделал хотя бы его модель. Колебался он много месяцев; в конце концов он приступил к делу и мало-помалу вылепил небольшую глиняную модель, чтобы он смог потом, руководствуясь ею как образцом и пользуясь планами и разрезами, им нарисованными, заказать деревянную модель больших размеров.
Однажды приступив к ней, он закончил ее в течение немногим больше одного года, поручив ее мастеру Джованни Францезе и вложив в нее немало стараний и трудов. Величину же он придал ей такую, что ее размеры и пропорции в малом в точности отвечали древним римским пальмам в большой постройке, осуществленной в полном своем совершенстве; в модели же он тщательно выполнил все членения колонн, без капителей, дверей, окон, карнизов и выступов, а также все прочие мелочи, понимая, что в таком произведении меньшего не сделаешь, поскольку у христиан, да и во всем, пожалуй, мире, не найти и не увидеть постройки более украшенной и большей по размерам.
И если мы теряли время на запись вещей и менее значительных, то кажется мне необходимым, гораздо более полезным и нашим долгом описать, каков же был проект, согласно которому Микеланджело собирался придать зданию и куполу задуманные им форму, порядок и общий вид, и потому с наивозможнейшей краткостью мы приведем его простое описание, ибо, если, как это было в наши дни, когда при жизни Микеланджело строительство это претерпело столько мучений, то же самое случится, упаси Боже, и после его кончины по зависти и злобе дерзостных людей, то пусть писания мои, каковыми бы они ни были, окажут помощь тем верным людям, на кого будет возложено осуществление замыслов сего редкостного человека, а также пусть они обуздают злую волю тех, что вздумал бы их исказить, а в то же время пусть они пойдут на пользу, доставят удовольствие и просветят умы тем талантам, друзьям нашего дела, которые им занимаются.
И для начал сообщу о том, что, в соответствии с моделью этой, сделанной по указаниям Микеланджело, весь скромный внутренний пролет купола окажется равным ста восьмидесяти шести пальмам и речь идет при этом о его ширине от стенки до стенки. Он покоится на большом, идущем кругом внутреннем травертиновом карнизе, утвержденном на четырех поднимающихся от земли больших парных столбах, с резными капителями коринфского ордера и с собственными архитравом, фризом и карнизом, также из травертина, и этот карниз, огибающий кругом все большие ниши, опирается и лежит на четырех больших арках трех ниш и входной части, образующих крест в этой постройке; там же, где начинает вырастать самое начало купола, начало это отмечено основанием из травертина с площадкой шириной в шесть пальм, по которой ходят, и это основание круглое, наподобие колодца, и толщина его составляет тридцать три пальмы и одиннадцать унций, а высота до его карниза – одиннадцать пальм и десять унций, верхний же карниз равен примерно восьми пальмам, а его выступ – шести с половиной пальмам. В это круглое основание входят, чтобы подняться в купол, через четыре входа над арками ниш, вся же толщина этого основания разделена на три части: внутреннюю, равную пятнадцати пальмам, наружную в одиннадцать пальм и среднюю в восемь пальм одиннадцать унций, что и составляет вместе толщину, равную тридцати трем пальмам, одиннадцати унциям. Средний проем полый и служит проходом, высота которого равна двум квадратам; он идет кругом и объединяется полуциркульным сводом, а в каждом из четырех входов в восемь дверей с четырьмя лестницами, из которых одна поднимается к уровню карниза первого основания и ширина ее равна шести пальмам с половиной, вторая поднимается к внутреннему карнизу, опоясывающему купол, и ширина ее равна восьми пальмам и трем четвертям; по каждой из них легко можно пройти внутри и снаружи этой постройки; от одного же входа до другого по кругу двести одна пальма, а так как таких расстояний четыре, то всего кругом будет восемьсот шесть пальм. Далее можно подняться с площадки этого основания, на котором стоят колонны и пилястры и которое служит далее фризом, обходящим изнутри окна, и имеет высотой четырнадцать пальм с одной унцией. Снаружи по верху и низу этого основания проходят узкие карнизы, выступающие всего на десять унций, и все это из травертина. В толще третьей части, над той, что внутри, которая, как сказано, должна иметь толщину, равную пятнадцати пальмам, в каждой четвертой части сделана лестница, одна половина которой выходит на одну сторону и вторая половина на другую, ширина которой – четыре с четвертью пальм, а ведет она к основанию колонн. На этом уровне, по отвесу над толщей основания, вздымаются восемнадцать весьма мощных травертиновых столбов, каждый из которых украшен снаружи парой колонн, а внутри парой пилястров, о чем будет сказано ниже, всю же ширину между столбами занимают окна, через которые в абсиды проникает свет. Столбы обращены боками к средней точке купола, и длина их равна тридцати шести пальмам, а спереди – девятнадцати с половиной. Снаружи к каждому примыкают по две колонны с цоколем их основания в восемь пальм и три четверти и высотой в полторы пальмы; ширина основания равна пяти пальмам и восьми унциям, высота его… (Пропуск в печатных изданиях.) пальмам и одиннадцати унциям; ствол колонны равен сорока трем с половиной пальмам, у основания – пяти пальмам и шести унциям, наверху же – четырем пальмам девяти унциям; высота коринфской капители – шесть с половиной пальм, а с киматием – девять пальм. Колонны эти видны только на три четверти, ибо четвертая их четверть сливается с углами, состоящими из половинок столба, которые своими углами выходят вовнутрь; посреди же внутренней стороны находится вход в виде двери с арочным завершением шириной в пять пальм и высотой в тринадцать пальм и пять унций; вход этот был затем заложен вплоть до капителей пилястров и колонн и слился с двумя другими пилястрами, подобными тем, которые выступают, отвечая наружным колоннам, чередующимся, как украшение, с шестнадцатью окнами, расположенными вокруг названного купола и имеющими в свету ширину в двенадцать с половиной пальм и высоту около двадцати двух пальм. Снаружи они украшены архитравами разной формы, шириной в две и три четверти пальмы, а внутри они украшены также разными ордерами с их фронтонами, прямыми и в четверть круга; снаружи они шире, а изнутри уже, дабы пропускать больше света, и потому же внутри они снизу скошены, чтобы свет падал на фриз и на карниз, проходящие между каждой парой плоских пилястров, соответствующих по высоте наружным колоннам. Итак, всего там тридцать шесть наружных колонн и тридцать шесть внутренних пилястров, а на внутренних этих пилястрах архитрав высотой в четыре пальмы и пять четвертей, фриз – в четыре с половиной пальмы и карниз в четыре и две трети и с выносом в пять пальм. Над карнизом проходит балюстрада, чтобы можно было ходить кругом безопасно, а чтобы удобно было подниматься туда же с площадки, на которой стоят колонны, в толще проема на пятнадцать пальм поднимается еще одна лестница такого же рода и таких же размеров с двумя ветвями, то есть подъемами, до верха колонн, капителей, архитрава, фриза и карниза, и, не мешая свету проникать в окна, лестница эта наверху становится витой той же ширины и доходит в конце концов до площадки, от которой начинается изгиб купола. Весь этот порядок, все распределение и все украшения настолько разнообразны, удобны и крепки, прочны и богаты и так хорошо принимают распор обоих сводов купола, закругляющегося над ними, все это так хитроумно и так хорошо продумано, а позднее настолько отлично было сложено, что глазам тех, кто это дело знает и в нем понимает, никогда не могло представиться ничего более изящного, более прекрасного и более искусного: таковы стыки и связи отдельных камней; такова прочность и вечность каждой части, такова предусмотрительность, с какой отведена дождевая вода по многочисленным скрытым желобам, и в конце концов таково совершенство, до которого все доведено так, что все другие постройки, виданные и возведенные до сего дня, ничто по сравнению с величием этой, и величайший ущерб принесен был ей теми, кого это касалось и кто не приложил к этому всех своих усилий, ибо следовало возвести это столь прекрасное и потрясающее сооружение до того, как смерть отняла у нас мужа столь редкостного.
Микеланджело довел работы до описанной высоты, и остается только приступить к своду купола, о котором, поскольку сохранилась модель, мы продолжим наш рассказ, следуя тому порядку, который он завещал для его возведения. Вычерчивая свод, он провел циркуль через три точки, расположенные треугольником в таком порядке
А В
С
Нижнюю точку С он принял за главную и через нее вычертил первый полукруг купола, задающий форму, высоту и ширину свода, который по его распоряжению должен был быть целиком выложен рыбьей чешуей из хорошо прокаленных и обожженных кирпичей. Толщина свода четыре с половиной пальмы, одинаковая снизу доверху, в середине же оставляется просвет в четыре с половиной пальмы внизу, служащий для подъема по лестницам, ведущим к фонарю от площадки карниза с балюстрадой. Очертания внутренней части второго свода, широкого внизу и суживающегося кверху, проводятся через точку В, и толщина свода равна четырем с половиной пальмам. Последняя же дуга, образующая наружную часть, широкую внизу и узкую наверху, проводится из точки А. Когда эта дуга вычерчена, наверху увеличивается весь средний проем внутренней полости, к которой поднимаются лестницы высотой в восемь пальм, чтобы можно было идти выпрямившись; толщина же свода постепенно уменьшается так, что внизу он, как говорилось, равен четырем с половиной пальмам, кверху же сужается постепенно до трех с половиной пальм, причем наружный свод соединяется с внутренним при помощи связей и лестниц так, что оба свода держат друг друга, а из восьми частей, на которые разделен план купола, четыре части, приходящиеся на арки, оставлены пустыми для уменьшения их веса, другие же четыре, опирающиеся на столбы, сопряжены и связаны так, чтобы прочность их была вечной.
Лестницы, расположенные между обоими сводами, имеют следующую форму. Они поднимаются от площадки, где пята свода, в четырех его частях через два входа и пересекаются в форме буквы X, доходя на наружной стороне свода до половины дуги, проведенной из точки С. Поднявшись прямо до половины этой дуги, в остальной части затем с удобством поднимаются постепенно от витка к витку одной, а потом другой лестницы вплоть до самого глазка, где начинается основание фонаря, окруженного, как об этом будет сказано ниже, и в зависимости от более узкого шага, по сравнению с шагом нижних пилястров, малым, подобным внутреннему, ордером сдвоенных пилястров и окнами. Возвращаясь к первому большому внутреннему карнизу купола, Микеланджело начинает членить от его основания свод купола на находящиеся на нем изнутри кессоны, разделенные шестнадцатью выступающими ребрами, равными внизу по ширине двум пилястрам, которые с нижней стороны чередуются с окнами под сводами купола; ребра эти сужаются пирамидально до глазка фонаря и опираются внизу на пьедестал той же ширины в десять пальм высотой; пьедестал этот утвержден на площадке карниза, загибающегося и обходящего вокруг купола, на котором в середине распалубков между ребрами помещены восемь больших овалов высотой по двадцать девять пальм каждый, а над ними – четырехугольники, более широкие внизу и сужающиеся кверху, высота которых – по двадцать четыре пальмы; а там, где ребра сходятся, над четырехугольниками расположены круги высотой в четырнадцать пальм. Всего же там должно быть восемь овалов, восемь четырехугольников и восемь кругов, и каждый из них образует более плоское углубление; поверхность же их обнаруживает исключительное богатство, ибо Микеланджело задумал выполнить ребра и украшения названных овалов, четырехугольников и кругов целиком из травертина.
Остается упомянуть о поверхности и украшениях свода с той стороны, где крыша, которая начинает закругляться на основании высотой в двадцать пять с половиной пальм, с пьедесталом, имеющим вынос в две пальмы внизу и таким же киматием наверху. Покрыть его он предполагал крышей из того же свинца, из какого ныне крыша старого Сан Пьетро, что составляет между массивными частями шестнадцать пролетов, которые начинаются там, где кончаются парные колонны, стоящие между ними; в середине каждого пролета будет по два окна, освещающих промежуточную полость, где находятся подъемы с лестницами между двумя сводами, и окон этих всего тридцать два. Окна же эти, при помощи сандриков в четверть круга и выступающих из крыши, он сделал такими, что они от дождевых вод защищали необычный вид с птичьего полета; а во всех направлениях, начиная от середины массива парных колонн, и там, где кончается карниз, поднимались соответствующие каждой паре колонн шестнадцать ребер шириной в пять пальм каждое и расширяющиеся книзу, кверху же суживающиеся; в середине же каждого из этих ребер предполагался прямоугольный канал шириной в полторы пальмы, через который проходит и лестница со ступенями около одной пальмы, по которой можно сходить и подниматься от нижней площадки до самого верха, где начинается фонарь. Ребра из травертина, и в них заделаны все отверстия для защиты стыков от воды и льда на случай обилия дождей. Проект фонаря имеет те же сокращения, как и вся постройка в целом, так что, если провести нити от вершины до нижнего периметра, все сокращается равномерно и увеличивается храмиком тех же пропорций, опоясанным с парными круглыми колоннами, соответствующими нижним колоннам, в массивах выступающими пилястрами, позволяющими обойти фонарь кругом и видеть через окна между пилястрами внутренность купола и церкви. Архитрав же, фриз и карниз, обходящие кругом, над парными колоннами выступают, а над раскреповками расположены завитки с нишами между ними; все вместе завершается табернаклем, который имеет кривизну свода и суживается на одну треть своей высоты, как пирамида, закругляющаяся вплоть до самого яблока, на котором установлен крест в качестве последнего завершения.
Можно было бы назвать много других мелочей и подробностей, как, например, отдушины от землетрясений, водопроводы, различные световые проемы и другие приспособления, но их описание я опускаю, поскольку строительство еще не закончено; достаточно было коснуться главных частей, что я и сделал наилучшим образом в меру своих возможностей. И так как стройка продолжается и всякий может ее увидеть, то, дабы просветить того, кто в этом не разбирается, достаточно и краткого наброска.
Модель эта, завершенная к величайшему удовлетворению не только друзей Микеланджело, но и всего Рима, стала твердыней и основой всего строительства. Вслед за этим скончался Павел IV, и после него был избран Пий IV, который, перепоручив строительство дворца в Бельведерской роще Пирро Лигорио, оставленному дворцовым архитектором, много наобещал Микеланджело и весьма его обласкал. Он подтвердил полномочия по строительству Сан Пьетро, дарованные ему сначала именным приказом Павла III, а затем Юлия III и Павла IV, и возвратил ему частично поступления и доходы, отнятые Павлом IV, пользуясь им во многом, касающемся его строек; работы же по Сан Пьетро он за время своего правления сильно продвинул. В частности, он воспользовался его услугами при составлении проекта гробницы своего брата, маркиза Мариньяно, которая должна была стоять в Миланском соборе и была заказана Его Святейшеством кавалеру Лионе Лиони, превосходнейшему аретинскому скульптору и большому другу Микеланджело; о том же, как должна была выглядеть эта гробница, будет рассказано на своем месте. Тогда же кавалер Лионе очень живо изобразил Микеланджело на медали, на обороте которой, по желанию последнего, был изображен слепец, ведомый собакой, в окружении такой надписи: «Docebo iniquos vias, et impii ad te convertentur», а так как она очень понравилась Микеланджело, последний подарил ему вылепленную собственноручно из воска модель Геркулеса, душащего Антея, а также несколько своих рисунков.
Не существует других портретов Микеланджело, кроме двух живописных его изображений: одно работы Буджардино и другое Якопо дель Конте; есть еще бронзовый рельеф, сделанный Даниэлло Риччарелли, да эта медаль кавалера Лионе. Со всех них сделано столько копий, что я видел большое их количество во многих местах Италии и за ее пределами.
В том же году кардинал Джованни деи Медичи, сын герцога Козимо, отправился в Рим к Пию IV за кардинальской шляпой, и Вазари, как человеку близкому и состоявшему у него на службе, пришлось ехать вместе с ним; поехал же он туда охотно и пробыл там около месяца, чтобы наслаждаться обществом Микеланджело, который его очень любил и постоянно держал при себе. По приказанию Его Превосходительства Вазари привез с собой деревянную модель всего герцогского дворца во Флоренции, а также и рисунки новых помещений, им выстроенных и расписанных, которые Микеланджело пожелал увидеть в модели и рисунках, не будучи в состоянии по старости увидеть самих работ, многочисленных, разнообразных, различных по замыслу и выдумке, начиная от оскопления Урана, от Сатурна, Опы, Цереры, Юпитера, Юноны, Геркулеса, и каждому из них было посвящено отдельное помещение с их историями в разных изображениях, а также другие комнаты и залы под ними, получившие название по именам героев из рода Медичи, начиная с Козимо Старшего, Лоренцо, Льва X, Климента VII, а также синьора Джованни, герцога Алессандро и герцога Козимо; и в каждой из них были не только история их деяний, но и написанные в естественную величину изображения их самих, их детей и всяческих лиц старого времени – придворных, военных и ученых. Об этом Вазари написал диалог, в котором разъяснял все истории и цель своего замысла и то, как мифы наверху соответствуют историям внизу, и когда Аннибал Каро прочел их Микеланджело, он доставил ему этим величайшее удовольствие. Диалог этот Вазари выдаст в свет, когда найдет для этого время.
Все это началось с того, что Вазари захотел перестроить большую залу, ибо, как об этом уже говорилось в другом месте, из-за низкого потолка она была приземистой и темной. Ему хотелось поднять потолок, но герцог Козимо все никак не мог решиться дать ему разрешение на поднятие потолка, и не потому, что герцога страшили расходы, но, как это выяснилось позднее, ему казалось опасным приподнять стропила крыши на тринадцать локтей. Однако Его Превосходительство, как человек рассудительный, пошел на то, чтобы выслушать мнение Микеланджело, который по модели увидел, какой была зала раньше и какой должна была стать потом, после того как все деревянные части будут убраны и заменены другими, с заново продуманными потолком и стенами и когда будут нарисованы задуманные истории. Микеланджело все это понравилось, и он тотчас же стал не судьей, а сообщником, убедившим, что таким образом легче поднять стропила и крышу и в кратчайшее время закончить всю работу. Когда же Вазари возвращался обратно, он послал с ним герцогу письмо, в котором советовал продолжать это дело, достойное его величия. В том же году в Рим отправился сам герцог Козимо с синьорой герцогиней Элеонорой, своей супругой, и Микеланджело посетил герцога тотчас же по его прибытии. Тот обласкал его чрезвычайно, в знак уважения к великим его достоинствам усадил его с собою рядом, и совсем запросто вступили они в беседу обо всем, что было сделано Его Превосходительством во Флоренции в отношении живописи и скульптуры, и о том, что он предполагал сделать, а в частности, и о зале. Микеланджело снова подтвердил свое мнение и укрепил герцога в его намерениях, а также высказал сожаление, что, любя герцога, не может пойти к нему на службу, ибо прошли его молодые годы. Его Превосходительство рассказал ему, что нашел способ работать по порфиру, когда же тот в этом усомнился, он послал ему, как об этом говорилось в первой главе теоретического вступления, голову Христа, изваянную скульптором Франческо дель Тадда, которая привела его в изумление. Во время пребывания герцога в Риме он посещал его неоднократно, к величайшему его удовлетворению. Точно так же поступил он, когда некоторое время спустя прибыл светлейший дон Франческо деи Медичи, сын герцога, обрадовавший Микеланджело, которому Его Светлейшее Превосходительство оказал любезный прием и всяческие милости и всегда разговаривал с ним, держа шляпу в руках, так как испытывал к человеку, столь редкостному, почтение бесконечное. Он писал Вазари, что его огорчают болезни и старость, что он охотно сделает что-либо для такого государя и что он старается купить в Риме какие-нибудь красивые древности, чтобы переслать их во Флоренцию. В это же время папа упросил Микеланджело дать ему рисунок для Порта Пио, и тот сделал три, один другого необычайнее и прекраснее, папа же выбрал для осуществления тот, который требовал наименьших расходов и который и был выстроен к великой его славе таким, каким мы это видим и ныне. А Микеланджело, увидев, что папа разохотился перестроить и другие ворота Рима, дал ему много рисунков и для них; он же по просьбе того же папы сделал проект для новой церкви Санта Мариа дельи Анджели в термах Диоклетиана, чтобы приспособить их под христианский храм: среди же многочисленных проектов, составленных превосходными архитекторами, предпочтение было отдано одному из его рисунков, где были настолько прекрасно предусмотрены все удобства братьев- картезианцев, что они в настоящее время почти завершили строительство. Его Святейшество и все прелаты и придворные были изумлены, с какой прекрасной предусмотрительностью и как рассудительно использован был весь костяк названных терм; они увидели, что из этого получился прекраснейший храм с вестибюлем, превосходящим замыслы всех архитекторов, за что и заслужил честь и славу бесконечную. Для этого же храма он по заказу Его Святейшества составил рисунок бронзовой дарохранительницы, вылитой в большей ее части мастером Якопо Сицилийцем, превосходным бронзолитейщиком, изготовляющим вещи весьма тонко, без накипи, которые отчищаются без затруднений. Мастер он в этом роде редкостный, и работы его Микеланджело весьма одобрял.
Флорентийская нация на своих собраниях рассуждала неоднократно о хорошем начале, какое следовало бы положить церкви Сан Джованни, что на Страда Джулиа; и вот, собравшись вместе, все главы наиболее богатых семей обещали вносить по своим возможностям взносы для поддержания названного строительства, и таким образом они добились того, что было собрано денег порядочно. Говорили и о том, следовать ли старому проекту или же придумать что-либо новое получше; было решено воздвигнуть нечто новое на старых фундаментах, и в конце концов выбрали троих для попечения над этим строительством, а именно Франческо Бандини, Уберто Убальдини и Томмазо де'Барди, которые обратились к Микеланджело за проектом, напоминая ему, что стыдно было флорентинцам, выбросив столько денег на ветер, не сделать до сих пор ничего, и если он будет не в силах довести ее до конца, то им уже не к кому обратиться. Он обещал это сделать с любезностью, какой он раньше не проявлял, ибо в преклонном возрасте он охотно брался за дела, связанные с религией и угодные Богу, а также из-за любви к своей нации, которую любил всегда.
Для обсуждения этого дела Микеланджело имел при себе флорентийского скульптора Тиберио Кальканьи, молодого человека, горевшего желанием обучиться искусству и обратившегося по приезде в Рим к занятиям архитектурой. Так как Микеланджело любил его, он передал ему для завершения, о чем уже говорилось, мраморное Оплакивание, которое он разбил, а кроме того, мраморный бюст Брута, размерами значительно больше натуры, чтобы он его закончил; в нем тончайшими резцами была отделана одна лишь голова. Он заимствовал ее с изображения Брута, вырезанного на весьма древней корниоле, принадлежавшей синьору Джулиано Чезарино, и голова эта, вещь редкостная, была высечена Микеланджело по просьбе его большого друга мессера Донато Джаннотти для кардинала Ридольфи.
Итак, при архитектурных заказах Микеланджело, не будучи в состоянии по старости ни вычертить проекта, ни провести чисто линии, пользовался услугами Тиберио, человека весьма любезного и скромного. А потому, пожелав, чтобы тот помог ему и в этом деле, он приказал ему снять план участка названной церкви; тот снял его и отнес тотчас же к Микеланджело, который в то время, как никто и не думал, что он уже что-нибудь сделал, уведомил через Тиберио, что заказчиков он обслужил в конце концов и показал им пять проектов прекраснейших храмов. Увидев их, все были поражены, он же предложил им выбрать один из них по собственному усмотрению. Ему ответили, что делать этого не хотят, ибо полагаются на его суждение, он же тем не менее пожелал, чтобы они решали, как им заблагорассудится, и тогда единодушно они отобрали проект самый богатый. Когда было вынесено такое решение, Микеланджело заявил, что, если проект этот будет осуществлен, будет создано произведение, какого никогда в свое время не создавали ни римляне, ни греки, – слова, никогда не исходившие из уст Микеланджело ни до того, ни позднее, ибо был он человеком скромнейшим. В конце концов было постановлено, что все распоряжения будут исходить от Микеланджело, а труды по выполнению будут возложены на Тиберио; все были этим удовлетворены, так как Микеланджело им обещал, что Тиберио обслужит их наилучшим образом. Итак, передав Тиберио план, дабы тот перерисовал его чисто и вычертил точно, он заказал ему наружную и внутреннюю профилировку, а также глиняную модель, научив, как ее сделать, чтобы она была прочной. Тиберио через десять дней закончил модель размерами в восемь пальм, она очень понравилась всем флорентинцам, и было приказано сделать по ней деревянную модель, ту, что ныне в консульстве нации; вещь эта так редкостна, что другого такого столь прекрасного, богатого и разнообразного храма не увидишь никогда. Его только начали строить, и когда на строительство было истрачено пять тысяч скудо, средств больше не оказалось. В таком виде оно и осталось, к величайшему для Микеланджело огорчению.
Он передал Тиберио заказ на выполнение по всему проекту капеллы в Санта Мариа Маджоре, начатой для кардинала Санта Фьоре, но незаконченной из-за смерти и самого кардинала, и Микеланджело, и Тиберио, что было для этого юноши ущербом величайшим.
На строительстве Сан Пьетро Микеланджело проработал семнадцать лет, и уполномоченные неоднократно пытались отстранить его от этой должности. А так как это им не удавалось, они ломали себе голову, как бы при помощи то одной, то другой нелепой выдумки ему во всем противоречить, надеясь, что он, утомившись, уйдет, будучи уже настолько старым, что работать уже не может. Так, когда умер производитель работ Чезаре из Кастель Дуранте, Микеланджело поставил на его место по собственному усмотрению, дабы строительство не пострадало, Луиджи Гаэту, человека слишком молодого, но вполне пригодного. Тогда уполномоченные, часть которых неоднократно пыталась выдвинуть на это место Нанни да Баччо Биджо, надоедавшего им и насулившего с три короба, уволили Луиджи Гаэту, чтобы получить возможность распоряжаться на строительстве по собственному усмотрению. Когда Микеланджело узнал об этом, он пришел прямо-таки в ярость и отказался впредь появляться на строительстве. А те начали распространять слухи, что он уже к этому неспособен, что следует найти ему заместителя и что он будто бы заявил, что не хочет больше возиться с Сан Пьетро. Все это дошло до ушей Микеланджело, и он послал Даниэлло Риччарелли из Вольтерры к епископу Ферратино, тому из начальников, который рассказал кардиналу Карпи, будто бы Микеланджело заявил одному из своих слуг, что не хочет больше возиться со строительством. Даниэлло сообщил, что Микеланджело всего этого вовсе не хочет, и Ферратино выразил сожаление, что Микеланджело не сообщает о своих намерениях, что все же хорошо было бы заменить его кем-нибудь другим и что он охотно взял бы на его место Даниэлло, на которого, видимо, согласился бы и сам Микеланджело. После этого Ферратино, объявив уполномоченным от имени Микеланджело, что ему найден заместитель, представил им не Даниэлло, а вместо него Нанни Биджо, который, вступив в должность по утверждении начальством и начав с того, что распорядился перебросить деревянные мостки от холма, где папские конюшни, чтобы подняться к большой нише, обращенной в ту сторону, велел нарубить несколько толстых еловых бревен, заявив, что, поднимая материал, изводят слишком много канатов и что доставлять его таким путем будет легче. Микеланджело, прослышав об этом, немедленно отправился искать папу и, встретив его на площади Капитолия, поднял такой шум, что тут же заставил его вернуться во дворец, где и сказал ему: «В качестве моего заместителя, святой отец, послали Вам человека, совершенно мне неизвестного: поэтому, если им и Вам, Ваше Святейшество, стало известным, что я уже ни при чем, я поеду на отдых во Флоренцию, где буду пользоваться милостями великого герцога, который так меня домогался, и закончу жизнь у себя дома, а потому отпустите меня с миром». Папа огорчился и, утешив его добрыми словами, приказал ему явиться в тот же день в Арачели, чтобы с ним поговорить. Там, собрав уполномоченных строительства, он захотел узнать от них причины происходившего, и они ему ответили, что постройка рушится и что в ней были сделаны ошибки. Папа, знавший, что это неправда, предписал синьору Габрио Шербеллоне пойти и осмотреть строительство, которое должен был ему показать Нанни, предложивший эти мероприятия; так и поступили. Когда же синьор Габрио установил, что все это было клеветой и ложью, Нанни был выпровожен со словами отнюдь не лестными в присутствии многочисленных господ, причем в вину ему было поставлено и то, что рухнул мост Санта Мариа и что в Анконе, взявшись по дешевке сотворить невесть что для очистки гавани, он в один день засорил ее так, как море не засорило ее и в десять лет. Таков был конец деятельности Нанни на постройке Сан Пьетро, где Микеланджело в течение семнадцати лет стремился постоянно лишь к тому, чтобы закрепить ее во что бы то ни стало, несмотря на все противодействия, не будучи уверен в том, что эти завистливые преследования не изменят ее после его смерти, в то время как ныне она стоит так прочно, что можно с уверенностью возводить ее свод. Поэтому стало очевидно, что Господь, покровитель людей добрых, защищал его в течение всей его жизни, действуя всегда на пользу сей постройки и в защиту сего человека до самой его смерти. Ибо и переживший его Пий IV приказал начальникам строительства не менять никаких распоряжений Микеланджело, а с еще большей решительностью подтвердил то же его преемник Пий V; во избежание возникновения непорядков он приказал выполнять нерушимо все проекты Микеланджело, их же исполнителями были назначены архитекторы Пирро Лигорио и Якопо Виньола. Когда же Пирро захотел самонадеянно нарушить и изменить прежний порядок, он был с позором устранен от этого строительства, на котором был оставлен один Виньола, и наконец, в то время как сей ревностнейший первосвященник заботился столько же о строительстве Сан Пьетро, сколько и о христианской вере, и когда Вазари в 1565 году был допущен припасть к стопам Его Святейшества и вызван вновь в 1566 году, беседа шла лишь о том, как добиться соблюдения замыслов, оставленных Микеланджело, а дабы избежать каких бы то ни было непорядков, Его Святейшество поручил Вазари отправиться вместе с тайным казначеем Его Святейшества, мессером Гульельмо Сангалатти, к епископу Ферратино, начальнику строителей Сан Пьетро, и от имени папы приказать ему выполнение всех существенных распоряжений и замечаний Вазари, дабы никогда по наветам кого-либо из людей злонамеренных и зазнающихся не пришлось изменить хотя бы единой черты или распоряжения, завещанных превосходным талантом и памятью Микеланджело; при сем присутствовал и мессер Джовамбаттиста Альтовити, большой друг Вазари и поклонник таланта Микеланджело. Вследствие чего, выслушав обращенную к нему речь Вазари, Ферратино охотно принял все замечания и обещал беспрекословно соблюдать и заставить других соблюдать на этом строительстве все распорядки и замыслы, оставленные на этот предмет Микеланджело, а также быть защитником и охранителем трудов столь великого мужа.
Возвращаясь же к Микеланджело, я скажу, что приблизительно за год до его смерти Вазари тайным образом добился того, чтобы герцог Козимо деи Медичи договорился с папой через посредство своего посланника Аверардо Сарристори о том, дабы ввиду большой дряхлости Микеланджело было установлено внимательное наблюдение за теми, кто ведет его домашнее хозяйство и кто у него бывает, дабы, если что-либо внезапно с ним случится, как это часто бывает со стариками, было предусмотрено, чтобы его вещи, рисунки, картоны, модели и деньги и все его имущество были на случай его смерти переписаны и поставлены под охрану для передачи строительству Сан Пьетро, на случай, если бы там оказалось что-либо относящееся к нему и к сакристии, библиотеке и фасаду Сан Лоренцо, и чтобы это не было расхищено, как это часто случается. Подобная предусмотрительность способствовала тому, чтобы все это в конце концов было осуществлено.
Лионардо, племянник Микеланджело, собирался приехать наступающим великим постом в Рим, ибо предчувствовал, что близок конец жизни Микеланджело, и тот одобрил это намерение, а когда же он заболел затяжной лихорадкой, приказал Даниэлло тотчас же написать Лионардо, чтобы тот приехал. Однако, так как болезнь усиливалась, несмотря на то, что он находился в окружении и мессера Федериго Донати, своего врача, и своих близких, он в полнейшем сознании составил завещание, состоявшее из трех слов: душу свою он отдавал в руки Господа, тело земле, а имущество ближайшим родственникам, наказав своим близким напомнить ему о страстях господних, когда будет он отходить от сей жизни. И так в двадцать три часа 17 февраля 1563 года, по флорентийскому исчислению (что по римскому было бы в 1564 году), он испустил дух, дабы отойти к лучшей жизни.
Был Микеланджело весьма склонен к работе в области искусства, видя, что ему удается любое дело, каким бы трудным оно ни было, ибо от природы обладал он гением весьма способным и приверженным к этому своему отменнейшему умению рисовать; и чтобы достичь в нем полного совершенства, он постоянно занимался анатомией, вскрывая трупы, дабы усмотреть начала и связи костяка, мышц, нервов и жил, а также различные движения и всяческие положения человеческого тела, и не только людей, но и животных, и в особенности лошадей, держать которых было для него большим удовольствием; и во всем он стремился усмотреть начало и порядок, имеющие связь с искусством, и настолько проявлял он это во всех вещах, которыми ему приходилось заниматься, что большего не сделает тот, кто занимается только одним. Поэтому-то он и создавал как кистью, так и резцом вещи почти что неподражаемые и придавал, как об этом уже говорилось, своим творениям столько искусства, грации и некоей живости, что (и не в обиду пусть будет это сказано всем остальным) он превзошел и победил древних, с такой легкостью сумев преодолеть трудности во всех вещах, что и не кажется, будто они сделаны с трудом; хотя каждый, кто потом срисовывает его произведения, подражая им, трудности в них обнаруживает.
Талант Микеланджело был признан еще при его жизни, а не после смерти, как это со многими бывает; ибо мы видели, что первосвященники Юлий II, Лев X, Климент VII, Павел III и Юлий III, Павел IV и Пий IV всегда хотели видеть его при себе, а также, как известно, и Сулейман – повелитель турок, Франциск Валуа – король французский, Карл V – император, Венецианская синьория, а в конце концов, как об этом говорилось, и герцог Козимо Медичи – все они с почетом награждали его только ради того, чтобы пользоваться его великим талантом, а это выпадает на долю только тех людей, которые обладают великими достоинствами. Но к таким он и принадлежал, ибо все знали и все видели, что все три искусства достигли в нем такого совершенства, какого не найдешь ни у древних, ни у новых людей за многие и многие годы вращения солнца и какое Бог не даровал никому другому, кроме него. Воображением он обладал таким и столь совершенным, и вещи, представлявшиеся ему в идее, были таковы, что руками осуществить замыслы столь великие и потрясающие было невозможно, и часто он бросал свои творения, более того, многие уничтожал; так, мне известно, что незадолго до смерти он сжег большое число рисунков, набросков и картонов, созданных собственноручно, чтобы никто не смог увидеть трудов, им преодолевавшихся, и то, какими способами он испытывал свой гений, дабы являть его не иначе, как совершенным; есть и в моей Книге рисунков кое-какие из созданных его рукой, найденные мной во Флоренции; в них хотя и видно величие этого гения, все же понимаешь, что, когда он хотел добыть Минерву из головы Юпитера, ему нужен был молот Вулкана, и потому он делал свои фигуры в девять, десять и двенадцать голов, добиваясь лишь того, чтобы после объединения их в одно получилось в целом некое согласие грации, какое природой не создается; говаривая при этом, что циркуль следует иметь в глазу, а не в руке, ибо рука работает, а глаз судит, того же придерживался он и в архитектуре.
И пусть никому не покажется странным, что Микеланджело любил одиночество, как человек, влюбленный в свое искусство, которое требует, чтобы человек был предан ему целиком и только о нем и размышлял; и необходимо, чтобы тот, кто хочет им заниматься, избегал общества, ибо тот, кто предается размышлениям об искусстве, одиноким и без мыслей никогда не остается, те же, кто приписывают это в нем чудачествам и странностям, заблуждаются, ибо, кому желательно работать хорошо, тому надлежит удалиться от всех забот и докук, так как талант требует размышлений, уединения и покоя, а не мысленных блужданий. Не менее ему была дорога во благо времени и дружба многих высокопоставленных и ученых лиц, а также людей даровитых, и он эту дружбу поддерживал: так, когда великий кардинал Ипполито деи Медичи, который его очень любил, прослышал, что ему нравится красотой своей турецкий конь, которым он обладал, синьор сей послал его ему от щедрот своих в подарок, да еще десять мулов, навьюченных овсом, в придачу со слугой, их погонявшим. И Микеланджело охотно все это принял. Ближайшим его другом был и знаменитейший кардинал Поло, в таланты и достоинства которого Микеланджело был влюблен, кардинал Фарнезе, кардинал Санта Кроче, ставший позднее папой Марцеллом, кардинал Ридольфи и кардинал Маффео, и монсиньор Бембо, Карпи и многие другие кардиналы, епископы и прелаты, называть которых поименно не приходится; монсиньор Клаудио Толомеи, великолепный мессер Оттавиано деи Медичи, его кум, у которого он крестил одного из сыновей, и мессер Биндо Альтовити, которому он подарил для капеллы картон, где опьяневшего Ноя поносит один из сыновей его, другие же двое прикрывают ему срамные части; мессер Лоренцо Ридольфи, мессер Аннибал Каро и мессер Джован Франческо Лоттини из Вольтерры; а больше всех любил он бесконечно мессера Томмазо де'Кавальери, римского дворянина, который с юности имел большую склонность к этим искусствам и для которого Микеланджело, чтобы научить его рисовать, выполнил много самых поразительных листов, где были нарисованы черным и красным карандашами головы богов, а потом ему же нарисовал он Ганимеда, похищаемого на небо птицей Юпитера, Тиция, которому коршун выклевывает сердце, падение в По колесницы с Фаэтоном и вакханалию путтов; и все эти произведения, и каждое из них само по себе, творение редкостнейшее, рисунки, каких больше не увидишь. Микеланджело изобразил мессера Томмазо на картине в естественную величину, хотя ни раньше, ни позднее ни с кого не делал портретов, ибо ненавидел делать похожим живого человека, если только он не был бесконечно прекрасным. Эти листы послужили причиной тому, что мессер Томмазо, наслаждаясь ими тогда, как и сейчас, собрал добрую партию им подобных, которые Микеланджело выполнил когда-то для фра Бастьяно, венецианца, написавшего по ним дивные картины; да и, по правде говоря, мессер Томмазо недаром относится к ним как к святыням и любезно предоставляет их художникам. И надо сказать правду, что Микеланджело любовь свою отдавал всегда людям благородным, заслуженным и достойным, ибо поистине во всем проявлялись его вкус и правильная оценка. Помимо того, по просьбе мессера Томмазо Микеланджело выполнил много рисунков для его друзей: так, для кардинала Чезис – на дереве Богоматерь, благовествуемую архангелом; вещь необычную, которая затем была раскрашена красками рукой Марчелло Мантуанца и была помещена в мраморную капеллу, сооруженную названным кардиналом в римской церкви делла Паче, а также еще одно Благовещение написал на дереве тот же Марчелло для церкви Сан Джованни, что в Латеране, по рисунку, принадлежащему герцогу Козимо деи Медичи и поднесенному после смерти Микеланджело его племянником Лионардо Буонарроти Его Превосходительству, который хранит его как драгоценность вместе с Христом, молящимся в саду, и многими другими собственноручными рисунками, набросками и картонами Микеланджело, а также и статуей Победы с поверженным пленником, высотой в пять локтей. Четыре же незаконченных пленника могут указать верный способ высекать из мрамора фигуры, не повреждая камень. А способ этот таков: если взять фигуру из воска или какого-либо другого твердого материала и положить ее в сосуд с водой, и так как вода по своей природе обладает поверхностью гладкой и ровной, то, если приподнимать над ней равномерно и мало-помалу названную фигуру, обнаруживаться будут сначала более выпуклые части фигуры, а глубины ее, то есть более низкие ее части, будут еще оставаться закрытыми, пока она таким образом не откроется целиком. Подобным же образом мраморные фигуры должны обрабатываться резцом; постепенно и более плоские; мы видим, что этот способ применял Микеланджело для вышеназванных пленников, которые по желанию Его Превосходительства служат образцом для его академиков.
Он любил и своих художников и работал с ними вместе, с такими, например, как Якопо Сансовино, Россо, Понтормо, Даниэлло да Вольтерра и Джорджо Вазари, аретинец, по отношению к которому он был ласков бесконечно и который благодаря ему обратил свое внимание на архитектуру с намерением когда-нибудь ею заняться; он охотно вел с ними разговоры и рассуждал об искусстве. Те же, кто говорит, что учить он не желал, неправы, ибо он всегда давал советы и своим близким, да и всем, кто их у него спрашивал, но, хотя я при этом часто присутствовал, из скромности умолчу об этом, не желая обнаруживать чужие недостатки. Об этом легко судить по тому, что ему не везло с теми, кто жил у него в доме, поскольку он нападал на людей, неспособных ему подражать; так ученик его Пьетро Урбано из Пистойи был человеком одаренным, но утруждать себя так и не захотел. Антонио же Мини и рад был бы, но мозги оказались у него негодными, а ведь на жестком воске хорошей печати не поставишь. Старался изо всех сил Асканио из Рипы Трансоне, но плодов труда его мы не видим ни в картинах, ни в рисунках: он годами просиживал за доской, для которой получал картон от Микеланджело, и в конце концов все добрые надежды, на него возлагавшиеся, рассеялись как дым; помню, как Микеланджело из жалости к его потугам помогал ему собственноручно, но большого толку от этого не получалось. Он не раз говорил мне, что если бы был у него ученик, он сам, несмотря на преклонные годы, постоянно вскрывал бы трупы и написал бы об этом на пользу художникам, в кое-ком из которых он обманулся. Однако он не решался на это, не чувствуя себя в состоянии выразить в письменном виде все, что бы ему хотелось, ибо в красноречии он не упражнялся, хотя, впрочем, в прозе своих писем он умел немногими словами хорошо пояснить свою мысль, так как очень любил читать наших поэтов и в особенности Данте, которым сильно восхищался и которому подражал в своих образах и замыслах, а также и Петрарку. Он любил писать мадригалы и очень глубокие сонеты, на которые составлялись комментарии: так, мессер Бенедетто Варки произнес во Флорентийской академии хвалебную речь на сонет, начинающийся словами:
Non ha l'ottimo artista alcun concetto,
Ch'un marmo solo in se non circonscriva.
Но бесчисленное их множество посылал он светлейшей маркизе Пескара и получал от нее ответы в стихах и в прозе, будучи влюблен в ее добродетели, равно как и она была влюблена в его добродетели, и много раз совершала она путь от Витербо до Рима, дабы навестить его. Микеланджело нарисовал для нее чудеснейшее Оплакивание Христа, лежащего на коленях у Богоматери с двумя ангелочками, и Христа, распятого на кресте и предающего, воздев голову к небу, дух свой Отцу – творение божественное, а также и Христа с самаритянкой у колодца.
Будучи примерным христианином, он очень любил Священное Писание и весьма почитал записанные проповеди фра Джироламо Савонаролы, ибо речи брата слышал он и с кафедры. Он очень любил красоту человека ради подражания ей в искусстве и чтобы отбирать красивое в красивом, ибо без такого подражания ничего совершенного создать невозможно, но не ради мыслей похотливых и непристойных, что он и доказал образом своей жизни, весьма воздержанной, ибо в молодости для подкрепления сил в труде он обходился небольшим количеством хлеба и вина, в преклонном же возрасте, когда писал Страшный суд в капелле, он столь же умеренно ужинал по вечерам после окончания дневных трудов. И хотя был он человеком богатым, жил, как бедный, друзей своих не угощал никогда или только изредка и ни от кого не принимал подарков, так как считал, что если ему кто-нибудь хоть что-либо подарит, тому он навсегда будет обязан. Такая умеренность придавала ему большую бодрость, спал же он весьма мало, очень часто вставал среди ночи, так как не мог заснуть, и брался за резец: устроив шлем из картона, он к самой макушке прикреплял свечу, освещавшую таким образом место, над которым он работал, оставляя свободными руки. Вазари, который шлем этот видел не однажды, заметил, что пользуется он свечами не восковыми, а из чистого козьего сала, которые превосходны, и послал ему четыре связки, весившие сорок фунтов. Старательный его слуга принес их в два часа ночи, и когда он поднес их Микеланджело, а тот не захотел их принять, заявив: «Мессер, пока я шел от моста, они оттянули мне руки, обратно домой я их не понесу; вот у вашего дома грязь такая густая, что их легко в нее понатыкать, и я все их зажгу». «Оставь их здесь, – ответил Микеланджело, – я вовсе не хочу, чтобы ты делал глупости у моего дома». Он рассказывал мне, что в молодости часто спал одетым, подобно тому как человек, измученный работой, не успевает раздеваться, с тем чтобы одеваться снова. Иные считали его скупым, но они ошибались, так как своим отношением к произведениям искусства, равно как и к своей собственности, он показывал обратное. Что касается произведений искусства, то, как уже об этом говорилось, он подарил мессеру Томмазо де'Кавальери, мессеру Биндо и фра Бастьяно весьма ценные рисунки, своему же ученику Антонио Мини все рисунки, все картоны, картину с Ледой, все модели из воска и глины, когда-либо им сделанные, и все это, как говорилось, осталось во Франции, а Герардо Перини, флорентийскому дворянину, лучшему своему другу, – человеческие головы, божественно нарисованные на трех листах черным карандашом, которые после его смерти попали в руки светлейшего Дон Франческо, государя Флоренции, который почитает их драгоценными, как они того и заслуживают.
Бартоломео Беттини он выполнил и подарил картон с Венерой и целующим ее Купидоном; божественная эта вещь находится ныне у его наследников во Флоренции, а для маркиза дель Васто нарисовал на картоне «Noli me tangere», вещь редкостную; и то, и другое, как об этом говорилось, превосходно написал красками Понтормо. Двух пленников он подарил синьору Руберто Строцци, а своему слуге Антонио и Франческо Бандини – Оплакивание Христа, высеченное из мрамора и им же разбитое; как же можно обвинить в скупости такого человека, раздарившего столько вещей, за которые он мог бы выручить не одну тысячу скудо? Что мог бы он ответить на это? Разве то, что должно быть известно и мне, ибо я присутствовал при том, сколько он выполнил рисунков, сколько раз ходил смотреть и картины, и постройки, никогда не требуя за это ничего.
Но поговорим о деньгах, заработанных им в поте лица и накопленных им не из его доходов, не из выгодного размена денег, а лишь собственными его стараниями и трудами. Разве можно назвать скупцом того, кто, подобно ему, помогал стольким беднякам, тайком выдавал замуж многих девушек и обогащал своих помощников и слуг, как, например, он сделал богачом своего слугу Урбино, который был и его учеником, служил у него долгое время. Он как-то спросил его: «А что ты будешь делать, когда я умру?» Тот ответил: «Пойду служить к другому». «Ах ты, несчастный, – сказал ему Микеланджело, – надо мне помочь твоей бедности», и подарил ему зараз две тысячи скудо; так принято было бы поступать государям и великим первосвященникам. Не говорю о том, что племяннику своему он дарил зараз по три и по четыре тысячи скудо и в конце концов завещал ему десять тысяч скудо, помимо своего римского имущества.
Память у Микеланджело была цепкой и глубокой: чужие работы, увидев их однажды, он запоминал настолько крепко и пользовался ими так, что никому почти это не было заметно, в его же вещах одна никогда не повторяла другой, так как он помнил все, сделанное им раньше. Когда он в молодости проводил время с друзьями-живописцами, они за ужином как-то в шутку побились об заклад, кто из них сделает фигуру без всякого рисунка, наподобие тех уродов, каких изображают неучи, пачкающие стены. И здесь он проявил свою память: вспомнив, что видел где-то на стене подобное уродство, он воспроизвел его так, будто в точности видел его перед собой, и превзошел всех этих живописцев, а выйти сухим из воды было делом нелегким для того, кто был переполнен рисунком и кто привык к вещам отборным.
Сердился он сильно, но за дело, на тех, кто чинил ему обиды; однако не видано было, чтобы он мстил кому-нибудь, скорее же был терпеливым до чрезвычайности и нрава весьма скромного, говорил же сдержанно и мудро, отвечая всегда серьезно, иногда же остроумно, приятно и резко. Многие высказывания его нами записаны, из которых мы приведем лишь некоторые, ибо переписывать все было бы долго.
Когда кто-то говорил ему о кончине одного из его друзей и кто-то сказал, что это должно очень его расстроить, поскольку он сам находится в постоянных трудах ради искусства и никогда еще не отдыхал, он ответил, что это ничего не значит, так как если жизнь нам приятна, то и смерть, созданная рукой одного и того же творца, не должна быть нам неприятной. Одному гражданину, встретившему его во Флоренции в Орсанмикеле, остановившемуся, глядя на статую св. Марка работы Донато и спросившему его, что он думает об этой фигуре, Микеланджело ответил, что никогда не приходилось видеть ему фигуры, в которой был бы так показан честный человек, и если св. Марк был таким, его писаниям можно верить. Когда ему как-то показали рисунок одного юноши, учившегося в то время рисовать, и кое-кто просил отнестись к нему снисходительно, так как заниматься искусством он начал недавно, Микеланджело сказал: «Это и видно». То же самое высказал он и одному живописцу, написавшему «Оплакивание», которое у него не получилось, заявив, что хочется плакать, когда на него смотришь.
Когда он услыхал о том, что Себастьяне, венецианец, собирается изобразить монаха в капелле Сан Пьетро а Монторио, он сказал, что тот испортит это произведение. Когда же его спросили почему, он ответил, что, после того как монахи испортили весь мир, который так велик, не так уж важно, если они испортят такую маленькую капеллу. Один живописец вложил огромнейшие труды в одну свою работу и корпел над ней долгое время; зато когда он ее открыл, он заработал порядочно. Когда же Микеланджело спросили, что он думает об этом труженике, он ответил: «Чем больше он будет стараться разбогатеть, тем беднее он будет». Один из его друзей, который стал священником, будучи очень набожным, встретился с ним в Риме, обвешанный ладанками и весь в шелках, и поздоровался с Микеланджело, но тот притворился, что не видит его, поэтому другу пришлось назвать свое имя. Микеланджело сделал вид, что удивляется, глядя на него в таком одеянии, и, будто радуясь, воскликнул: «О, какой вы красивый! Если и внутри вы такой же, как снаружи, благо душе вашей». Он же прислал к Микеланджело своего приятеля с просьбой высечь ему статую и от себя попросил высечь ее получше, и тот любезно постарался. Тот же не думал, что Микеланджело так поступит, и когда увидел, что тот все же это сделал, начал из зависти на него же и жаловаться. Об этом рассказали Микеланджело, на что тот заметил, что не любит людей, похожих на нужники: этой архитектурной метафорой он хотел сказать, что плохо иметь дело с людьми двуличными.
Когда один из его друзей спросил его, что он думает о том, кто подделывает самые знаменитые из древних мраморных статуй, хвастаясь, что он, подражая им, намного превзошел древних, Микеланджело ответил: «Тот, кто идет за другими, никогда их не перегонит, а тот, кто сам не умеет хорошо сделать, не сумеет хорошо воспользоваться и чужим». Какой-то живописец написал картину, где лучше всего изобразил быка; когда Микеланджело спросили, почему живописец изобразил быка живее всего остального, тот ответил: «Всякий художник хорошо изображает самого себя».
Когда он как-то проходил мимо флорентийского Сан Джованни, его спросили, что он думает о дверях. Он ответил: «Они так прекрасны, что годились бы и для дверей рая». Будучи на службе у одного государя, который беспрестанно менял свои намерения и ни на чем не мог утвердиться, Микеланджело заметил одному из друзей своих: «У этого синьора мозги как флюгер на колокольне, который поворачивается от любого дующего на него ветра». Он пошел как-то посмотреть на только что законченную скульптуру, которую собирались уже выставить, и скульптор всячески изощрялся поставить ее так, чтобы свет из окон падал на нее получше, на что Микеланджело ему заметил: «Не старайся: важно, как она будет освещена на площади». Этим он хотел сказать, что когда вещь выставлена, народ судит о том, хороша ли она или плоха.
Был в Риме один знатный вельможа, мнивший себя архитектором и заказавший для статуй особые ниши высотой в три квадрата и с кольцом наверху, но когда он попробовал поставить туда разные статуи, которые никак не подходили, он спросил Микеланджело, что же туда можно поставить, и тот ответил: «Подвесьте по связке угрей к этим кольцам». В руководство строительством Сан Пьетро был назначен один синьор, которому полагалось разбираться в Витрувии и судить о построенном. Когда Микеланджело сказали: «У вас на строительстве появился человек, обладающий большим талантом», он ответил: «Это верно, но понимает он мало».
Один живописец написал историю и из разных мест, с рисунков и картин, надергал столько, что своего в его работе не было ничего. Ее показали Микеланджело, и когда он посмотрел на нее, один из ближайших друзей его спросил, как она ему показалась, он ответил: «Сделано хорошо, только не знаю, в день Страшного суда, когда все тела соберут свои члены, что будет с этой историей, ведь в ней ничего не останется», – предупреждение всем, кто занимается искусством, чтобы они приучались самостоятельно работать.
Когда он проезжал через Модену, он увидел много работ моденского скульптора, мастера Антонио Бигарино, лепившего прекрасные фигуры из глины и красившего их под мрамор, которые показались ему вещами превосходными, но, поскольку скульптор тот не умел работать в мраморе, он сказал: «Если бы эта глина превратилась в мрамор, горе древним статуям». Микеланджело сказали, что он должен был бы не сердиться на Нанни ди Баччо Биджи, который что ни день пытается с ним соревноваться. Он ответил: «Одолеть ничтожество – победа не велика». Один священник, его приятель, сказал ему как-то: «Как жаль, что вы не женились: было бы у вас много детей и вы бы им оставили столько почтенных трудов». Микеланджело на это ответил: «Жен у меня и так слишком много: это и есть то искусство, которое постоянно меня изводит, а моими детьми будут те произведения, которые останутся после меня; если же они ничего не стоят, все же они сколько-нибудь да проживут, и плохо было бы Лоренцо ди Бартолуччо Гиберти, если бы он не сделал дверей Сан Джованни, потому что его сыновья и внуки распродали и разбазарили все, что после него осталось, двери же все равно еще стоят».
Вазари, которого Юлий III в ночной уже час послал к Микеланджело за каким-то рисунком, застал его работающим над мраморным «Оплакиванием», которое он разбил впоследствии. Микеланджело, узнавший его по стуку в дверь, встал от работы, держа в руке светильник за ручку; когда же Вазари объяснил ему то, что он от него хотел, он послал Урбино наверх за рисунком, и в то время, как они беседовали о чем-то другом, Микеланджело поглядывал на Вазари, который рассматривал ногу Христа, над которой тот как раз работал, пытаясь придать ей другую форму; и вот, чтобы помешать Вазари разглядывать его работу, он выпустил светильник из руки, и, так как они остались в темноте, он кликнул Урбино, чтобы тот принес света, и, выйдя из-за перегородки, где стояла его работа, он сказал: «Я так уже стар, что смерть уже частенько тянет меня за полу, чтобы я шел за ней, и настанет день, когда упадет и вся моя особа, как упал вот этот светильник, и огонь жизни погаснет». Со всем этим ему доставляли удовольствие люди всякого рода, приходившиеся ему по вкусу. Так, Менигелла из Вальдарно, который был очень забавной особой, но живописцем дюжинным и неумелым, приходил иногда к Микеланджело, чтобы тот нарисовал св. Роха или св. Антония, которых он написал для крестьян, и Микеланджело, которого трудно было уговорить сделать что-либо для королей, отложив в сторону любую работу, выполнял для него простые рисунки в соответствии с манерой и пожеланиями Менигеллы; между прочим, тот заказал ему и прекраснейшую модель Распятия, с которой сделал слепок, размножив его из картона и других смесей, и торговал ими по деревням так, что Микеланджело помирал со смеху; бывали и такие забавные случаи, как, например, с одним крестьянином, который заказал ему написать св. Франциска, но ему не понравилось, что Менигелла изобразил его в серой одежде, а ему хотелось расцветки покрасивее, и тогда Менигелла одел святого в парчовую ризу, чем и удовлетворил заказчика.
Микеланджело питал не меньшую любовь к некоему Тополино, каменных дел мастеру, который воображал себя выдающимся скульптором, но был очень слаб в этом деле. Он много лет провел в каррарских каменоломнях, откуда высылал мрамор и для Микеланджело, и к грузу каждой барки обязательно были приложены три-четыре фигурки, высеченные им собственноручно, глядя на которые Микеланджело покатывался со смеху. Когда же Тополино наконец возвратился, он высек из мрамора Меркурия и начал его отделывать; в один прекрасный день, когда оставалось сделать уже немного, он пожелал, чтобы Микеланджело на него взглянул, и пристал к нему, чтобы тот высказал свое мнение. «Очень глупо с твоей стороны, Тополино, – сказал ему Микеланджело, – браться за статуи. Разве ты не видишь, что этому Меркурию от колен до ступней не хватает больше трети локтя, что он карлик и что ты его изуродовал». – «Ну, это ничего: если дело только в этом, я его вылечу, предоставьте это мне». Снова посмеялся на его простоту Микеланджело и ушел, а Тополино взял немного мрамора и, обрубив Меркурия на четверть под коленками, заделал его в этот мрамор и тщательно загладил швы, обув его в пару сапог, так, что верхние края проходили выше швов, удлинив его насколько требовалось. Потом, вызвав Микеланджело, он показал ему свою работу, и опять тот смеялся, дивясь тому, как таких людей, вовсе неспособных, нужда заставляет решиться на такое, на что не решились бы и таланты.
Когда он отделывал гробницу Юлия II, он поручил одному мраморщику сделать герму для гробницы в Сан Пьетро ин Винколи с такими словами: «Убери вот это, здесь загладь, а здесь подчисть», и так тот и не заметил, как по его указаниям сделал фигуру, а закончив ее, он пришел от нее в восторг. «Ну, как она тебе кажется?» – спросил Микеланджело. «Нравится, – ответил тот, – и большое вам за это спасибо». – «За что же?» – спросил Микеланджело. «За то, что благодаря вам я открыл в себе талант, о котором я и не подозревал».
Однако чтобы быть кратким, скажу и о том, что человек этот отличался очень здоровым телосложением, ибо было оно сухое и жилистое, и хотя в детстве он был болезненным и перенес и в зрелом возрасте две серьезные болезни, он выносил любые трудности и изъянов не имел, разве только в старости страдал при мочеиспускании от песка, превратившегося позднее в камни, почему много лет спринцевался, находясь под наблюдением магистра Реальдо Коломбо, своего близкого друга, который лечил его тщательно. Роста он был среднего, широкоплечий, но хорошо сложенный в отношении других частей тела. Под старость он стал постоянно носить целыми месяцами сапоги из собачьей кожи на босу ногу, и когда хотел их затем снять, сдирал вместе с ними часто и кожу. А с чулками он, чтобы не пухли ноги, носил сафьяновые сапожки с застежками изнутри. Лицо он имел круглое, лоб четырехугольный и широкий, с семью пересекающими его морщинами; а виски выступали намного шире ушей, уши же, довольно большие, не прилегали к щекам; лицо было пропорционально довольно крупному телу, нос был немного приплюснут, как говорилось в жизнеописании Торриджано, сломавшего его ударом кулака, глаза, пожалуй, небольшие, цвета рога с желтоватыми и голубоватыми искорками, брови негустые, губы тонкие, причем нижняя была потолще и немного выдавалась вперед, подбородок хорошо соответствовал остальному, борода и волосы были черные с проседью, борода не очень длинная, раздвоенная и не очень густая.
Поистине явление его в мире было, как я говорил и вначале, знамением, ниспосланным Богом людям нашего искусства, дабы научились они по его жизни – как вести себя, по творениям его – какими должны быть художники подлинные и наилучшие. Я же, обязанный восхвалять Господа за благость бесконечную, выпадающую редко людям нашей профессии, более всего восхваляю Его за то, что родился я в те времена, когда жил Микеланджело, и удостоился иметь его своим учителем, и за то, что он был ко мне столь близок и дружествен, как это известно каждому и о чем свидетельствуют ко мне обращенные его письма, мною хранимые. И ради истины и в благодарность за его ласку я смог написать о нем столько и все одну только правду, чего не смогли написать многие другие. Другое же мое благо – в том, что он, бывало, говорил мне: «Возблагодари Бога, Джорджо, за то, что он дал тебе служить герцогу Козимо, не щадившему средств, дабы ты в свое удовольствие и строил и писал, осуществляя его замыслы и намерения, ибо другие, чьи жизни ты описывал, такого не имели».
Микеланджело был погребен в усыпальнице в Санто Апостоло перед лицом всего Рима после торжественного отпевания при стечении всех художников и всех его друзей и представителей флорентийской нации, Его же Святейшество намеревается воздвигнуть ему особую гробницу с памятником в римском Сан Пьетро.
Приехал и Лионардо, его племянник, после того уже, когда все было кончено, хотя и ехал он на почтовых. Так как он получил поручение от герцога Козимо, который задумал, поскольку не смог заполучить Микеланджело живым и оказать ему почести, увезти его во Флоренцию и почтить его после смерти возможно более торжественно, его тело было тайным образом переправлено в тюке под видом купеческих товаров: к такому способу прибегли для того, чтобы в Риме не поднимать шума и как-нибудь не задержать тела Микеланджело, воспрепятствовав его переправке во Флоренцию. Однако весть о кончине распространилась еще до прибытия тела, и по просьбе председателя Академии собрались виднейшие живописцы, скульпторы и зодчие, и председатель, каковым тогда был преподобный дон Винченцо Боргини, напомнил им, что они в силу своего устава обязаны оказывать почести всем скончавшимся своим собратьям и что это однажды уже было ими выполнено с такой любовью и ко всеобщему удовлетворению при погребении фра Джованни Аньоло Монторсоли, первым преставившегося после создания Академии, а потому им должно быть совершенно ясно, что именно надлежит им предпринять для почтения памяти Буонарроти, того, кто на общем собрании был единогласно избран первым из академиков и главой всех остальных. На это обращение был дан ответ, что все считают себя в высшей степени обязанными и безмерно преданными доблести подобного мужа, которого во что бы то ни стало следует почтить всеми наиболее подходящими и наилучшими способами, для них возможными. После чего, дабы им не приходилось ежедневно собирать столько народа, что было сопряжено с большими для них неудобствами, а также для того, чтобы дело протекало более спокойно, для устройства похорон и погребальных торжеств были избраны четыре лица: живописцы Аньоло Бронзино и Джорджо Вазари и скульпторы Бенвенуто Челлини и Бартоломео Амманати, люди с незапятнанным именем и в своем искусстве прославленные, для того, повторяю, чтобы они друг с другом советовались, и постановили сообща и вместе с председателем, что именно и как следует предпринять, с правом распоряжаться всем составом сообщества и Академии. Поручение это было принято ими на себя с большой охотой, тем более что все присутствующие, и молодые, и старые, добровольно предложили выполнять в соответствии с их профессией живописные и скульптурные работы, какие только могут понадобиться для оказания упомянутых почестей. После этого было постановлено, чтобы председатель в силу своей должности, а также консулы подписали от имени сообщества и Академии обращение к синьору герцогу с просьбой о помощи и милостях, какие могли бы понадобиться, и особо о том, чтобы названные похороны разрешено было совершить в Сан Лоренцо, церкви знаменитейшего дома Медичи, где хранится большая часть находящихся во Флоренции творений Микеланджело, а сверх всего и о том, чтобы Его Превосходительством разрешено было мессеру Бенедетто Варки составить и произнести надгробную речь, дабы превосходный талант Микеланджело был прославлен превосходным красноречием такого человека, каким был Варки, который, состоя особо на службе Его Превосходительства, без его разрешения не принял бы на себя подобного поручения, несмотря на то, что, будучи весьма любезным по природе и весьма преданным памяти Микеланджело, он, сам по себе, в чем они были совершенно уверены, от этого бы не отказался.
В заключение, когда академикам было разрешено удалиться, названный председатель составил письмо герцогу, точное содержание которого таково:
«Поскольку Академия и Сообщество живописцев и скульпторов порешили между собой, если на то будет соизволение Вашего Светлейшего Превосходительства, почтить каким-либо образом память Микеланджело Буонарроти, не только признавая наш общий долг перед такой доблестью, проявленной в их деле величайшим художником, из всех, быть может, когда-либо живших, но и в особых интересах общей их родины; а также из-за великой пользы, полученной в их деле благодаря совершенству его творений и замыслов, настолько, что они, как видно, обязаны проявить к его таланту благожелательство во всей для них возможной мере, они и излагают Вашему Светлейшему Превосходительству такое их желание и обращаются к Вам, как к своему прибежищу, за некоторой помощью. Я же, по их просьбе и (как полагают) также и по обязанности, раз что Ваше Светлейшее Превосходительство соблаговолило и в текущем году оставить за мной должность председателя их Сообщества, добавляю, что начинание это кажется мне полным благородства и достойным людей талантливых и благодарных; сверх же того, прекрасно зная, насколько покровительствует талантам Ваше Светлейшее Превосходительство, как убежище и единственный покровитель в наши дни людей одаренных, превосходя в этом своих предков, оказывавших необычайные милости лицам, в этом деле выдающимся: недаром по распоряжению Лоренцо Великолепного Джотто, задолго до того умерший, удостоился статуи в главном нашем храме и за его же собственный счет была сооружена прекраснейшая мраморная гробница фра Филиппе, да и многие другие получали в разных случаях дары и почести величайшие: и вот, побуждаемый всеми этими обстоятельствами, я и взял на себя смелость обратить к Вашему Сиятельнейшему Превосходительству просьбу Академии об оказании почестей таланту Микеланджело, особому ученику и питомцу школы Великолепного Лоренцо, а это послужит чрезвычайным удовольствием, величайшим удовлетворением для всего ее состава, а также немалым поощрением для занимающихся этими искусствами, для всей же Италии свидетельством великодушия и избытка доброты Вашего Светлейшего Превосходительства, и да сохранит Господь Вас на долгие годы в благополучии на счастье народов ваших и к защите добродетели».На письмо это синьор герцог ответил так: «Ваше преподобие, дражайший наш друг. Готовность, какую проявляло и проявляет сия Академия почтить память Микеланджело Буонарроти, отошедшего от сей жизни к жизни лучшей, весьма утешила нас, потерявших мужа столь особенного. И нам угодно не только дать соизволение на все испрашиваемое в памятной записке, но позаботиться и о том, чтобы прах его был доставлен во Флоренцию в согласии с его волей, о каковой стало нам известно. Пишем мы все это названной выше Академии, дабы воспламенить ее еще сильнее для всяческого прославления дарований стол великого мужа. И да поможет Вам Бог».
Письмо же, или, точнее, памятная записка, о которой упомянуто выше, обращенная Академией синьору герцогу, гласила в точности так:
«Ваша Светлость и прочее… Академия и члены сообщества Рисунка, созданного благосклонностью и милостью Вашего Светлейшего Превосходительства, памятуя о том, с каким старанием и рвением доставлено было Вами из Рима во Флоренцию через Вашего посланца тело Микеланджело Буонарроти, собравшись вместе, постановили единогласно, что обязаны устроить торжественные его похороны наилучшим образом, как только смогут и сумеют. Почему, зная, насколько Микеланджело почитал Ваше Светлейшее Превосходительство в той же мере, в какой Светлейшее Превосходительство дарило его благосклонностью, они умоляют Вас по бесконечной доброте Вашей и великодушию разрешить им следующее. Первое: разрешить им совершить названные похороны в церкви Сан Лоренцо, сооруженной Вашими предками, внутри которой столько и столь прекрасных его творений, как архитектурных, так и скульптурных, и по соседству с которой Вы возымели намерение создать помещение для названной Академии и для сообщества Рисунка, которое будет гнездом для постоянных занятий архитектурой, скульптурой и живописью. Второе: они просят Вас соизволить поручить мессеру Бенедетто Варки не только составить надгробную речь, но и произнести ее своими устами, что он обещал по нашей просьбе весьма великодушно, но при условии на это разрешения Вашего Светлейшего Превосходительства. В-третьих же, они просят и умоляют Вас при всем том же Вашем великодушии и щедрости соизволить оказать им вспомоществование при названных похоронах в том случае, если расходы превысят их ничтожнейшие возможности. По всему этому вместе и в отдельности производилось обсуждение и было вынесено решение в присутствии и с согласия весьма великолепного преподобного монсиньора мессера Винченцио Боргини, начальника Воспитательного дома, заместителя Вашего Светлейшего Превосходительства в упомянутых Академии и сообществе Рисунка. Примите и прочее».
На письмо это от Академии герцог ответил следующее: «Любезнейшие. Весьма рад удовлетворить полностью ваши просьбы, ибо неизменно наше расположение к редкостному дарованию Микеланджело Буонарроти, а ныне и ко всему вашему делу; озаботьтесь, однако, наметить предполагаемые вами расходы на его похороны, мы же не преминем оказать вам вспомоществование. Одновременно отписано и мессеру Бенедетто Варки о надгробной речи, а также и начальнику Воспитательного дома, который оказывает вам в этом деле наибольшее содействие. Оставайтесь же во здравии. Дано в Пизе».
Письмо, направленное Варки, было следующего содержания: «Любезнейший наш мессер Бенедетто. По расположению нашему к редкостному дарованию Микеланджело Буонарроти желательно нам, чтобы память о нем была почтена и прославлена всячески; посему будет нам приятно, чтобы ради Вашего к нам расположения взяли Вы на себя заботу о составлении речи, которая будет произнесена на похоронах согласно порядку, установленному представителями Академии, и еще будет приятнее, если произнесена она будет Вашими устами. Оставайтесь же во здравии».
Упомянутым представителям писал также мессер Бернардино Грацциани о том, что от герцога нельзя было и пожелать более ревностного стремления, чем он проявил, и что они могут рассчитывать на всяческую помощь и благосклонность Его Светлейшего Превосходительства. В то время как все это обсуждалось во Флоренции, Лионардо Буонарроти, племянник Микеланджело, который, прослышав о болезни дяди, приехал в Рим на почтовых, но в живых его уже не застал, узнав от Даниэлло да Вольтерра, ближайшего друга Микеланджело, а также и от других, окружавших святого старца, что он просил и умолял перевезти его тело во Флоренцию, на благороднейшую его родину, которую он всегда нежнейше любил, Лионардо весьма быстро и осторожно похитил тело и отправил его из Рима во Флоренцию в тюке, будто купеческий товар.
Нельзя умолчать и о том, что упомянутое последнее решение Микеланджело свидетельствовало, вопреки мнению некоторых, о подлинной правде, а именно о том, что многолетнее отсутствие из Флоренции объяснялось не чем другим, как только качеством ее воздуха; ибо по собственному опыту убедился он в том, что флорентийский воздух, резкий и редкий, был его телосложению чрезвычайно вреден, римский же воздух, более мягкий и умеренный, поддерживал его в полном здоровье до девяноста лет, чувства же его оставались живыми и нетронутыми как никогда, а силы такими, что, несмотря на возраст, он до последнего своего дня над чем-нибудь да работал.
Поскольку же приезд был, таким образом, внезапным и почти что неожиданным, сразу нельзя было все сделать так, как это сделали потом, и тело Микеланджело после прибытия во Флоренцию было по распоряжению выборных положено в гроб в тот самый день, когда оно прибыло во Флоренцию, а именно 11 марта, в субботу, в сообществе Успения под главным алтарем, что под задней лестницей Сан Пьетро Маджоре, и больше ничего не делалось. На следующий же день, приходившийся на воскресенье второй недели Великого поста, все живописцы, скульпторы и архитекторы столь же незаметно собрались вокруг Сан Пьетро Маджоре, захватив с собой лишь бархатный покров, вышитый и отороченный золотом; им покрыли гроб и целиком все носилки и положили на гроб распятие. А затем около половины первого ночи, окружив тесно гроб, более пожилые и выдающиеся художники вдруг взяли в руки факелы, большое количество которых было запасено, молодые же подняли носилки так стремительно, что счастливым мог себя почитать тот, кто, подойдя поближе, мог подставить плечи, собираясь затем в будущем похвалиться тем, что нес прах человека величайшего из всех, когда-либо занимавшихся их искусством. Как в подобных случаях бывает, много прохожих останавливалось поглядеть на людей, собравшихся зачем-то у Сан Пьетро, тем более что пошли уже слухи, что привезли тело Микеланджело и что его понесут в Санта Кроче. И хотя, как уже говорилось, было предусмотрено все, чтобы не было огласки, так как, если молва разнесется по городу и начнется стечение множества народа, нельзя будет избежать некоего смятения и неразберихи, им же хотелось, чтобы то немногое, что они хотели сделать, было сделано более спокойно, чем пышно, откладывая все остальное до времени более подходящего и удобного, но и то, и другое вышло наоборот: действительно, что касается толпы, едва новость стала переходить из уст в уста, церковь во мгновение заполнилась так, что в конце концов лишь с трудностью величайшей тело перенесли из церкви в ризницу, чтобы его развязать и уложить в предназначенное ему вместилище. Что же касается торжественности, то, не отрицая, конечно, того, что видеть на похоронах в большом числе духовенство, большое количество восковых свечей и множество лиц, принаряженных и одетых во все черное, еще не создает зрелища величественного и великолепного, все же производили впечатление и эти выдающиеся люди, которые столь ценятся и ныне и еще больше будут цениться в будущем, вдруг собравшиеся как бы под одним знаменем у тела покойного с такими трогательными заботами и любовью. А ведь число художников во Флоренции (а были там все) было поистине всегда очень велико. Действительно, искусства эти всегда процветали во Флоренции настолько, что, как я полагаю, и это можно сказать без обиды для других городов, собственным и главным гнездом и убежищем для искусства и была Флоренция, как для наук раньше были Афины. Сверх же большого числа художников столько граждан шли за ними и толпились по сторонам улиц, где проходило шествие, что больше их там и не помещалось, и, что самое главное, не было человека, который не прославлял бы заслуги Микеланджело, провозглашение же истинной доблести обладает такой силой, что и тогда, когда уже нет никакой надежды на пользу и славу, приносимые талантливым человеком, тем не менее доблесть его, по своей природе и по собственным ее заслугам, всегда остается достойной любви и почитания. И потому описанное зрелище казалось более жизненным и более ценным, чем любой возможный обряд, блещущий золотом и другими тканями. Когда же при таком прекрасном многолюдье тело было доставлено в Санта Кроче и после совершения монахами надлежащих для покойников обрядов, его поставили, как уже говорилось, с величайшим трудом из-за скопления народа в сакристию, где упоминавшийся председатель, прибывший туда по должности, желая угодить многочисленным присутствующим, а также потому (как он признавался впоследствии), что ему и самому захотелось посмотреть на покойника, которого он живым либо совсем никогда не видел, либо видел в таком возрасте, что ничего не запомнил, решился отдать распоряжение открыть гроб. Когда же это было сделано и когда и он и все мы, там присутствовавшие, ожидали, что обнаружим тело уже разложившимся и сгнившим, ибо после смерти прошло уже двадцать пять дней, а в гробу оно пролежало двадцать два дня, мы вдруг увидели его нетронутым во всех его членах и без какого-либо дурного запаха, и мы готовы были поверить, что он скорее всего спит сладким и спокойнейшим сном. И помимо того что и черты лица были как у живого (только цвет лица несколько напоминал покойника), ни одна часть тела не истлела и не вызывала неприятного чувства, голова же и щеки, если к ним прикоснуться, были такими, будто скончался он всего несколько часов тому назад.
Когда неистовство народа стихло, распорядились поставить тело в церковную усыпальницу между алтарем Кавальканти и дверью, ведущей во двор, где капитул. А в это время, когда молва разнеслась по всему городу, сбежалось столько молодых людей на него взглянуть, что трудно было закрыть усыпальницу. И если бы и днем продолжалось то же, что было ночью, пришлось бы оставить ее открытой, чтобы всех удовлетворить. А на следующее утро, когда живописцы и скульпторы начали готовиться к торжественным похоронам, множество поэтов, какими Флоренция всегда весьма изобиловала, начали прикреплять к усыпальнице латинские и итальянские стихи; и так продолжалось долго, причем стихи, которые были тогда напечатаны, составляли лишь малую часть множества сочиненных.
Возвратимся же к похоронам, которые происходили не на следующий день после св. Иоанна, как было задумано раньше, а были отложены до четырнадцатого июля. Трое выборных (ибо Бенвенуто Челлини, которому с самого начала нездоровилось участия не принимал), назначив распорядителем скульптора Дзаноби Ластрикати, порешили устроить скорее нечто отличающееся выдумкой и достойное их искусства, чем пышное и требующее расходов. И в самом деле, ведь предстояло почтить (говорили выборные и распорядитель) такого человека, как Микеланджело, и людьми его же профессии, богатыми в большей степени талантами, чем большими состояниями, и потому надлежало делать это не с царской пышностью либо излишней суетностью, но с замыслами и творениями, полными ума и красоты, плодами знаний и умения наших художников, почитая искусство искусством. Посему, несмотря на то, что сиятельный синьор герцог обнадежил нас любыми деньгами, какие могут нам быть потребны, мы тем не менее должны твердо стоять на том, что ожидают от нас нечто скорее изобретательное и красивое по выдумке, чем богатое по своей дороговизне или же по великолепию пышного убранства. Однако в конце концов обнаружилось, что и великолепия не было лишено творчество рук упоминавшихся академиков и что воздаваемые почести были поистине не только великолепны, но и изобретательны и полны замыслов, прихотливых и достойных восхваления. Итак, в конце концов был установлен следующий порядок: в среднем нефе Сан Лоренцо, насупротив обеих боковых дверей, одна из которых ведет на улицу, а другая в монастырский двор, был воздвигнут, как предполагалось, четырехугольный катафалк, высотой в двадцать восемь локтей, с Славой наверху, длиной в одиннадцать и шириной в девять локтей; и вот на цоколе этого катафалка, поднятом над землей на два локтя, со стороны, обращенной к главным дверям церкви, были помещены две прекраснейшие лежащие фигуры рек, одна из которых изображала Арно, другая же Тибр. В руках у Арно был рог изобилия, полный цветов и плодов, чем обозначалось, что это плоды искусства города Флоренции, и их было столько и были они таковы, что они заполнили весь мир и в особенности Рим красотой своей необычайной. И лучше всего это было показано другой рекой, изображавшей, как сказано было, Тибр; в самом деле, протянутые ее руки полны были цветов и плодов, полученных из рога изобилия реки Арно, лежащей насупротив ее, рядом. Это должно было обозначать также и то, что, питаясь плодами Арно, Микеланджело прожил большую часть своих лет в Риме, где и создал чудеса, поражающие весь мир. Знаком Арно был лев, а Тибра – волчица с младенцами Ромулом и Ремом; оба колосса, необычайных размеров и красоты, сделаны были под мрамор. Одна из рек, а именно Тибр, была выполнена учеником Бандинелли, Джованни ди Бенедетто из Кастелло, другая – Баттистой ди Бенедетто, учеником Аммана; оба были юношами отменными и подававшими большие надежды. Над этим уровнем возвышалась стенка высотой в пять с половиной локтей, обрамленная внизу, наверху и по бокам карнизом и с площадью для четырех картин, на первой из которых со стороны рек, светотенью, как и все остальные росписи убранства, был изображен Великолепный Лоренцо Медичи-старший, встречающий в своем саду (о котором говорилось в другом месте) юного Микеланджело и уже просмотревшего некоторые образцы его таланта – первые цветы, предвещавшие плоды, обильно порожденные позднее живостью и величием его гения. Историю эту на названной картине написали имеющие прозвище Мирабелло и Джироламо дель Крочифиссайо, которые, будучи близкими друзьями и товарищами, взялись вдвоем за эту работу: в ней было показано, как названный Великолепный Лоренцо, изображенный в естественную величину, живо и с быстрыми движениями любезно принимает в своем саду юного и весьма почтительного Микеланджело и как, испытав его, он передает его нескольким художникам для обучения. На второй истории в том же ряду, но по направлению к боковой двери, выходящей наружу, был изображен папа Климент, который, вопреки ходившим в народе слухам о ссоре Его Святейшества с Микеланджело из-за осады Флоренции, не только его поддерживает и явно благоволит к нему, но и поручает ему работы в новой сакристии и библиотеке Сан Лоренцо; о том же, как божественно тот себя там проявил, уже говорилось выше. Итак, на картине этой, рукой фламандца Федериго, прозванного Падоано, весьма искусно и в нежнейшей манере изображен Микеланджело, показывающий папе план упомянутой сакристии, позади же него частично ангелочки, а частично другие фигуры держат модели библиотеки, сакристии и находящихся в ней ныне законченных статуй – все это расположено весьма удачно и с тщательностью выполнено. Третья картина, расположенная, как и другие, описанные в первом ярусе, была обращена в сторону главного алтаря и была заполнена большой латинской эпитафией, сочиненной ученейшим мессером Пьером Веттори и смысл которой, в переводе на язык флорентинцев, таков:
«Академия живописцев, ваятелей и зодчих, по милости и с помощью герцога Козимо деи Медичи, ее главы и верховного покровителя искусств сих, восхищаясь превосходным талантом Микеланджело Буонарроти и признавая благо, дарованное божественными его творениями, посвятила памятник сей, созданный ее руками и со всей сердечной признательностью превосходству и таланту живописца, ваятеля и зодчего, величайшего из всех существовавших».
Латинские же слова были таковы: «Collegium pictorum, statuariorum, architectorum, auspido opeque sibi prompta Cosmi ducis, auctoris suorum commodorum, suspiciens singularem virtutem Michaelis Angeli Bonarrotae, intelligensque quanto sibi auxilio semper fuerit praeclara ipsius opera, studuit se gratum erga ilium ostendere, summun omnium, qui unquam fuerint, P. S. A., ideoque monumentum hos suis manibus extruclum, magno animi ardore ipsius memoriae dedicavit».
Эпитафию эту поддерживали два ангелочка с заплаканными лицами, гасившие каждый по факелу и как бы скорбящие о том, что угас великий и редкостный. На следующей картине, обращенной к двери, ведущей в монастырский двор, было изображено, как Микеланджело во время осады Флоренции создает укрепления холма Сан Миньято, почитавшиеся неодолимыми и удивительными; написана картина была рукой Лоренцо Шорини, ученика Бронзино, юноши, подававшего большие надежды.
Эта, нижняя, часть всего сооружения и, так сказать, его база имела по углам выступающие пьедесталы, и на каждом из пьедесталов стояли статуи, превышавшие естественную величину, а под каждой из них были еще статуи, как бы побежденные и порабощенные, таких же размеров, но согбенные в положениях разнообразных и необычайных. Первая по правую руку, в направлении главного алтаря, имела вид стройного юноши с одухотворенным лицом, прекрасного и живого, с двумя крылышками на висках, как на некоторых изображениях Меркурия, и олицетворяла она Талант, а под юношей с невероятной тщательностью была прекрасно выполнена фигура с ослиными ушами, олицетворяющая Невежество, смертельного врага Таланта; обе статуи принадлежали перуджинцу Винченцио Данти, о котором и о чьих работах, редкостных среди работ новых молодых скульпторов, в другом месте будет сказано более подробно. На другом пьедестале, по правую руку в сторону главного алтаря, обращенная к новой ризнице женская фигура олицетворяла христианское Сострадание и, полная всяческой доброты и благочестия, была она не чем иным, как совокупностью всех тех добродетелей, которые в наши дни называются богословскими, а язычниками именовались моральными. А поскольку христиане прославляют по заслугам добродетель христианина, украшенную самыми святыми нравами, то и получила для себя место приличествующее и почетное та добродетель, которую заботят закон божий и спасение души, ибо если она отсутствует, то все другие украшения тела и души стоят мало, или же вовсе ничего не стоят. Эта фигура, под которой был простерт попираемый ею Порок, или же, говоря точнее, Нечестие, выполнена рукой Валерио Ноли, юноши достойного, обладающего прекраснейшим талантом и заслужившим славу скульптора весьма рассудительного и старательного. Насупротив, со стороны старой сакристии, стояла другая, сходная фигура, осмысленно изображавшая богиню Минерву, или же, точнее говоря, Искусство. Ибо поистине можно сказать, что вслед за добрыми нравами и доброй жизнью, которые у людей наилучших всегда должны занимать первое место, именно Искусство даровало сему человеку не только честность и способности, но и всю его славу, так что еще при жизни питался он теми плодами, которые не сразу, а лишь после смерти людей прославленных и достойных созревают из превосходных их творений. И что еще важнее, он превозмог зависть в такой степени, что без каких-либо препятствий, по общему согласию получил степень и звание достигнутой им главной и высшей степени превосходства. По этой-то причине и попирается ногами фигура Зависти, изображенная старухой, тощей и дряхлой, с глазами гадюки, а в общем, с лицом и выражением, которые испускают яд и заразу, а сверх того еще обвивают ее змеи, в руке же у нее ядовитая гадюка.
Обе эти статуи выполнены молодым юношей по имени Ладзаро Каламек из Каррары, оставившим с детского еще возраста и до наших дней в некоторых картинах и статуях образцы таланта прекрасного и весьма живого. На четвертый пьедестал, насупротив органа со стороны главных дверей церкви, были поставлены еще две статуи работы Андреа Каламек, дяди только что названного и ученика Амманати: первая из них олицетворяла Рвение, ибо те, кто действует медленно и мало, не способны никогда заслужить такой цены, какую заслужил Микеланджело, который, как это видно по рассказанному выше, смолоду, с пятнадцати лет, и до девяноста, работал не покладая рук. Статуя Рвения хорошо подходила этому человеку, который и юношей был гордым и упорным; на руках у нее, чуть повыше кистей, два крылышка обозначали быстроту и неутомимость в труде, а под ногами лежала плененная Лень или Праздность в виде медлительной и усталой женщины, во всех движениях которой проявлялись тяжесть и сонливость. Все четыре фигуры, расположенные так, как об этом было рассказано, образовывали очень красивое и великолепное целое и выглядели целиком мраморными, так как глина была покрыта белилами, что получилось очень красиво. От уровня, где были установлены описанные фигуры, начинался еще один цоколь, также четырехугольный, а высотой локтя в четыре, но уже и короче нижнего на ширину выступа с карнизом, где стояли названные фигуры; на каждой стороне его была живописная картина шириной в шесть с половиной локтей и высотой в три локтя; а еще выше, на площадке, такой же, как внизу, но меньшей по размерам, сидели по всем четырем углам на выступах цоколя фигуры естественных размеров или чуть побольше; это были четыре женщины, и по орудиям у них в руках нетрудно было догадаться, что олицетворяли они Живопись, Скульптуру, Архитектуру и Поэзию по причинам, вытекающим из изложенного выше жизнеописания. Если же идти от главных дверей церкви к главному алтарю, то на первой картине второго ряда катафалка, а именно над той историей, где, как говорилось, Лоренцо деи Медичи принимает Микеланджело в своем саду, был на месте Архитектуры в прекраснейшей манере написан Микеланджело перед папой Пием IV, держащий в руках модель поразительного сооружения купола римского Сан Пьетро; история эта, получившая большое одобрение, была написана флорентийским живописцем Пьеро Франча в прекрасной манере и с выдумкой, а статуя, иначе говоря, настоящее олицетворение Архитектуры, что по левую руку от этой истории, были работы Джованни ди Бенедетто из Кастелло, столь себя прославившего, как об этом уже говорилось, также и Тибром, одной из двух рек спереди катафалка. На второй картине, что по правой руке, если идти далее по направлению к боковой ведущей наружу двери, был на месте Живописи изображен Микеланджело, пишущий Страшный суд, столь часто, но все еще недостаточно прославленный, который, повторяю, может служить образцом перспективных сокращений и всяческих других трудностей в искусстве. Олицетворением, отвечающим этой картине, написанной учениками Микеле ди Ридольфо с большой грацией и прилежанием, была статуя Живописи, также с левой стороны, а именно на углу, обращенном к новой ризнице, выполненная Баттистой дель Кавальери, юношей редкостнейшим по доброте, скромности и нравам и не менее превосходным как скульптор. На третьей картине, обращенной к главному алтарю, а именно над упоминавшейся эпитафией, был изображен на месте, отведенном Скульптуре, Микеланджело, беседующий с женщиной, в которой по многим признакам можно опознать Скульптуру, и казалось, будто он с ней советуется. Вокруг Микеланджело были некоторые из превосходнейших его скульптурных творений, а в руках женщины была дощечка с нижеследующими словами Боэция: «Simili sub imagine vormans». (Надписи на скульптурах приводятся А. Габричевским без перевода. Прим. ред.)
Возле этой картины, работы Андреа дель Минга, выполненной с прекрасной выдумкой и в прекрасной манере, стояла с левой стороны статуя Скульптуры, отменно сделанная скульптором Антонио ди Джино Лоренци. На четвертой же из этих четырех историй, обращенной в сторону органа, был, на месте, отведенном Поэзии, изображен Микеланджело, собирающийся писать какое-то сочинение, а вокруг него прекраснейшие, изящные и в приличествующих им согласно описаниям поэтов одеяниях девять муз, перед ними же Аполлон с лирой в одной руке, с лавровым венцом на голове и с еще одним венцом в другой руке, который он намеревается возложить на голову Микеланджело. По красоте и изяществу своему эта история, которую в прекраснейшей манере и с исключительной живостью положений написал Джованмариа Буттери, близка статуе Поэзии, по левую руку, работы Доменико Поджини, человека весьма искушенного не только в скульптуре и в чеканке прекраснейших монет и медалей, но и в изделиях из бронзы, а равным образом и в поэзии.
Так был украшен катафалк, уменьшавшийся уступами, так что его можно было обойти кругом, и похож он был на римский мавзолей Августа, а так как был четырехугольным, походил пожалуй, еще больше на Септизоний Севера, не на тот, что возле Капитолия, обычно именуемый так по ошибке, но на подлинный, тот, который в «Новом Риме» напечатан рядом с Антонианскими термами. Итак, названный катафалк имел три уступа: на первом лежали реки, на втором находились парные фигуры и на третий опирались ногой одиночные. Над этим же последним уступом возвышалась база, вернее же цоколь, высотой в один локоть, шириной же и длиной значительно уступавший названному третьему выступу, на выступах которого сидели названные единичные фигуры и вокруг которого шла надпись: «Sic ars extollitur arte» .
На этой базе была утверждена пирамида высотою в девять локтей, с двух сторон которой, а именно с обращенной к главному входу и с обращенной к главному алтарю, внизу, в двух овалах была помещена рельефная голова Микеланджело, отлично выполненная с натуры рукой Санти Бульони. На вершине пирамиды, в шаре, соразмерном пирамиде, как бы находился пепел почитаемого, а на шаре стояла превышавшая естественную величину и сделанная под мрамор Слава, будто летящая и оглашающая весь мир через трубу с тремя раструбами хвалу и признание столь великого художника. Славу эту выполнил Дзаноби Ластрикати, который помимо трудов, положенных им в качестве распорядителя на создание всего этого сооружения, не преминул показать также, к великой для себя чести, на что способны его талант и его руки. Таким образом, от уровня земли и до головы Славы было, как уже говорилось, двадцать восемь локтей.
Помимо названного катафалка вся церковь была украшена развешанными черными стягами, не как обычно на средних, а перед расположенными кругом капеллами, и не было ни одного проема между пилястрами, разделяющими эти капеллы, и соответствующими колоннами, в котором не было бы какого-нибудь живописного украшения и который не создавал бы прекрасного, изящного и затейливого зрелища, вызывавшего в то же время величайшие восторг и удивление. Начнем с одного конца: просвет первой капеллы, той, что рядом с главным алтарем в направлении старой ризницы, занимала картина высотой в шесть локтей и длиной в восемь, на которой в новом и как бы поэтическом замысле был посредине изображен Микеланджело, словно только что прибывший на Елисейские поля, а справа от него были изображены в размерах, значительно превышающих естественные, самые знаменитые и столь прославленные древние живописцы и скульпторы, каждого из которых можно было опознать по тому или другому приметному признаку: Праксителя – по сатиру, что на вилле папы Юлия III, Апеллеса – по портрету Александра Великого, Зевксиса – по небольшой доске, на которой он изобразил виноград, обманувший птиц, а Паррасия – по ложной завесе перед картиной. Так узнавались они как по этим, так и по другим признакам. А по левую руку находились прославившиеся в искусствах в новые времена от Чимабуэ до наших дней: там можно было опознать Джотто по небольшой доске с портретом молодого Данте, изображенного так, как Джотто написал его в Санта Кроче, Мазаччо – по его портрету, написанному с натуры; Донателло – также по его портрету и по Дзукконе с кампанилы, изображенной тут же; Филиппе Брунеллеско – по изображению купола Санта Мариа дель Фьоре. Далее написаны с натуры были без других опознавательных признаков фра Филиппо, Таддео Гадди, Паоло Учелло, фра Джованни Аньоло, Якопо Понтормо, Франческо Сальвиати и другие, и все они встречали его столь же гостеприимно, как и древние, и окружали его с теми же любовью и восхищением, совершенно так же, как встречали возвратившегося Вергилия другие поэты, по вымыслу божественного поэта Данте, у кого были заимствованы не только общий замысел, но и стих, начертанный на свитке в руках реки Арно, лежавшей у ног Микеланджело в прекраснейшей позе и с прекраснейшими чертами лица:
Все чтут его и все ему дивятся.
Картину эту, получившую высшее одобрение всех ее видевших, написал Алессандро Аллори, учившийся у Бронзино, достойный ученик и воспитанник выдающегося своего учителя.
В просвете капеллы Святых даров, что в торце средокрестия, на картине длиной в пять локтей и шириной в четыре локтя была изображена школа искусств, где окружившие Микеланджело младенцы, мальчики и юноши всех возрастов до двадцати четырех лет подносили первые плоды трудов своих, то есть картины, скульптуры и модели, ему, как существу святому и божественному, принимавшему их благосклонно и поучавшему их в вопросах искусства, они же слушали его весьма внимательно и смотрели на него в изящнейших позах и с выражением лиц поистине прекрасным и в высшей степени благодарным. И, говоря по правде, и вся композиция этой картины не могла быть до известной степени лучше осуществлена и для любой из фигур ничего более прекрасного нельзя было пожелать, за что и был безмерно прославлен Баттиста, ученик Понтормо, ее написавший; стихи же под этой историей гласили так:
Tu pater, tu rerum inventor, tu patria nobis Suppeditas praecepta tuis ex, inclyte, сhartis.
«Ты наш учитель-отец, а в искусстве творец и наставник. Все указанья твои помнить мы будем всегда». Пер. А. Габричевского.
Если идти от того места, где находилась описанная картина, к главным дверям церкви, чуть не доходя до органа, в просвете еще одной капеллы находилась картина длиной в пять локтей и высотой в четыре локтя, на которой была изображена некая величайшая и необычайная милость, оказанная редкостному таланту Микеланджело папой Юлием III, который, желая узнать суждение такого человека о некоторых своих постройках, пригласил его к себе на виллу, где, посадив его рядом с собой, он беседовал с ним порядочное время, тогда как окружавшие их кардиналы, епископы и другие придворные оставались все время на ногах. Случай этот, говорю я, был написан так слаженно и выпукло, и с такой живостью и непосредственностью в фигурах, что, вероятно, ничего лучшего не могло бы выйти из рук и выдающегося, старого и весьма опытного мастера, и потому Якопо Цукки – юный ученик Джорджо Вазари, выполнивший работу в прекрасной манере, доказал, что от него можно ожидать достойнейших успехов. А неподалеку, с той же стороны, а именно почти под самым органом, фламандец Джованни Страда, живописец стоящий, на картине длиной в шесть локтей и высотой в четыре локтя изобразил поездку Микеланджело в Венецию во время осады Флоренции; как он, остановившись в предместье города, именуемом Джудекка, принимает посланных дожем Андреа Гритти и Синьорией дворян и других лиц, посетивших его и подносящих ему ценнейшие подарки; в работе этой названному живописцу удалось показать, к великой его чести, большой вкус и широкие познания как в композиции в целом, так и в каждой отдельной его части, ибо обнаружил он в позах и живости лиц, а также в движениях каждой фигуры выдумку, владение рисунком и отменнейшую грацию.
Если возвратиться теперь к главному алтарю и повернуться к Новой сакристии, то первой картиной, находившейся в просвете первой капеллы, была работа Санти Тито, юноши с прекраснейшим вкусом и сильно понаторевшего в живописи, как во Флоренции, так и в Риме, изображающая еще одну выдающуюся милость, оказанную таланту Микеланджело, о чем я как будто уже рассказал выше, светлейшим синьором дон Франческо Медичи, князем флорентийским, который, находившись в Риме года за три до смерти Микеланджело и приняв его у себя, тотчас же по выходе Буонарроти встал и затем, чтобы почтить такого человека и его поистине достойную уважения старость с величайшей учтивостью, когда-либо проявленной молодым князем, заставил Микеланджело (хотя тот по своей величайшей скромности и отказывался) сесть в свое собственное кресло, с которого поднялся; а затем, стоя, он слушал его с таким вниманием и почтением, с каким лучшего из отцов выслушивают сыновья. Рядом с князем стоял выполненный очень тщательно мальчик с герцогским гербом в руке, а их окружали солдаты, одетые по-старому и написанные очень живо и в прекрасной манере. Но лучше всего были выполнены князь и Микеланджело – настолько, что поистине казалось, будто старец произносит слова, а юноша внимательнейше его слушает.
Еще на одной картине высотой в девять и длиной в двенадцать локтей, на той, что насупротив купола капеллы св. Даров, Бернардо Тиманте Буонталенти, живописец, которого светлейший князь весьма любил и жаловал, изобразил, проявив великолепнейшую выдумку, реки трех главных частей света, будто бы явившиеся в скорби и печали к реке Арно, дабы погоревать вместе с ней об общей для них утрате и утешить ее. Упомянутыми реками были Нил, Ганг и По. Знаком Нила был крокодил, гирлянда же колосьев означала плодородие страны, при Ганге была птица гриф и ожерелье из драгоценных камней, при По – лебедь и корона из черного янтаря. Реки эти, приведенные в Тоскану Славой, летящей над ними, стояли вокруг Арно, увенчанной кипарисом, которая одной рукой высоко поднимала пустой сосуд, в другой держала ветвь, у ног же ее лежал лев, а чтобы показать, что душа Микеланджело вознеслась к высшему небесному блаженству, хитроумный живописец придумал в воздухе сияние, обозначавшее свет небесный, к которому и направлялась благословенная душа в образе ангелочка с таким лирическим стихом в виде подписи:
Vivens orbe peto laudibus aethera. «С нами он жил на земле, но с небес снизошла к нему Благость». Пер. А.Габричевского.
По обе стороны на пьедесталах стояли две фигуры, раскрывающие занавес, за которым и являлись названные реки, душа Микеланджело и Слава; и под каждой из этих фигур было еще по фигуре. Та, что была по правую руку от рек, изображала Вулкана с факелом в руке, наступившего на шею Ненависти, изображенной в позе напряженной и почти что изнемогающей в попытках освободиться; и знаком ее был коршун с таким стихом в виде подписи:
Surgere quid properas, Obium crudele Jaceto.
Это обозначало, что творения сверхчеловеческие и почти что божественные никак нельзя ненавидеть, как нельзя им и завидовать. Второй фигурой была Аглая, одна из трех граций и супруга Вулкана, обозначавшая Соразмерность, с лилией в руке, ибо цветы посвящены грациям, а также и потому, что лилии приличествуют похоронам. Под ней лежала фигура Несоразмерности, знаком которой была обезьяна, а над ней был следующий стих:
Vivus et extinctus docuit sic sternere turpe.
А под реками было еще следующее двустишие:
Venimus, Arne, tuo confixa en vulnere moesta
Flumina, ut ereptum mundo ploremus honorem.
«Встать не старайся! Лежи под ногами проклятая Зависть!»
«Так он учил нас всегда красотой попирать безобразье».
«Вот мы пришли, Арно, печальные реки…»
Картина эта была признана отличной по замыслу, по красоте стихов, по композиции всей истории и по изяществу фигур. А за то, что живописец прославил Микеланджело не по заказу, как остальные, а добровольно и пользуясь помощью, оказанной его таланту любезными и почтенными его друзьями, он заслужил одобрения еще более высокого.
Еще на одной картине длиной в шесть локтей и высотой в четыре локтя, около боковой двери, выходящей на улицу, Томмазо из Сан Фриано, молодой и очень стоящий живописец, написал Микеланджело в виде посланца своего отечества к папе Юлию II; о его же поездке и почему его отправил Содерини, было рассказано выше. Неподалеку от этой картины, почти что под упомянутой боковой дверью, выходящей на улицу, на другой картине тех же размеров Стефано Пиери, ученик Бронзино, молодой человек очень прилежный и трудолюбивый, написал Микеланджело сидящим возле светлейшего синьора герцога Козимо в какой-то комнате и ведущим с ним беседу (что действительно происходило не раз в недавно прошедшие времена в Риме), как обо всем этом достаточно говорилось выше.
На черных стягах, которыми, как упоминалось, была убрана кругом вся церковь, там, где не было никаких историй или живописных картин, во всех проемах капелл были образы смерти, эмблемы и другие тому подобные вещи, отличавшиеся красотой и прихотливостью от тех, какие бывают обычно. Под некоторыми, как бы в знак скорби о том, что мир насильственно лишился подобного человека, было начертано следующее краткое изречение:
Coeqit dura necessitas. «Принуждает жестокая необходимость». Пер. А.Габричевского.
Или тут же, по прекраснейшему замыслу и выдумке упоминавшегося выше Алессандро Аллори, был изображен земной шар, из которого вырастала лилия с тремя цветками и надломленным стеблем. Для Смерти были и другие замыслы, но наибольшее одобрение получил тот, где она была простерта на земле, а Вечность с пальмой в руке наступала ей одной ногой на шею и, взирая на нее, с презрением как бы говорила, что, несмотря на твою неизбежность или твое желание, ничего ты не добилась, ибо вопреки тебе Микеланджело будет жить в любом случае. А надпись гласила: «Vicit inclita virtus». «Побеждает высокая доблесть».
Придумал же это Вазари. Не умолчу и о том, что каждая из этих Смертей чередовалась с эмблемой Микеланджело в виде трех венков или колец, пересекающихся так, что окружность среднего проходила через центры обоих боковых. Этим знаком Микеланджело пользовался, вероятно, для того, чтобы показать, что три искусства: скульптура, живопись и архитектура настолько переплетены и друг с другом связаны, что одно сообщает другому и получает от него пользу и красоту и что они не могут и не должны быть разъединены. А может быть, как человек великого ума, влагал он в это и более тонкий смысл. Но академики, которые признали его совершенство во всех трех искусствах, заменили три кольца тремя сплетенными вместе венками с таким изречением:
«Tergeminis tollit honoribus» («Трижды достоин славы». Пер. Габричевского.),
желая этим сказать, что ему подобает по заслугам венец высшего совершенства во всех трех названных искусствах.
На кафедре, с которой Варки произнес надгробную речь, позднее напечатанную, никаких украшений не было, ибо, поскольку отменный Донателло отделал ее бронзой и полурельефными и барельефными историями, любое добавленное поверх них украшение оказалось бы куда менее красивым; зато украшена была другая кафедра, которая стояла ей насупротив и еще не была поставлена на колонны, картиной высотой в четыре локтя и шириной чуть побольше двух, на которой с прекрасной выдумкой и отличнейшим рисунком была изображена Слава, или, вернее, Честь, в виде юноши в красивейшей позе и с трубой в правой руке, попирающего ногами Время и Смерть, чтобы показать этим, что Слава и Честь, вопреки времени и смерти, сохраняют вечно живыми тех, кто в этой жизни доблестно трудился. Картина эта была работы Винченцио Данти, о котором уже говорилось и будет еще говориться.
И вот, после того как церковь была таким образом убрана, украшена огнями и заполнилась народом в количестве неисчислимом, ибо всякий, оставив все свои другие дела, спешил на зрелище столь торжественное, вошли в нее вслед за упоминавшимся председателем Академии и, в сопровождении капитана и алебардщиков герцогской гвардии, консулы и академики, в общем же все живописцы, скульпторы и архитекторы Флоренции. Когда же они заняли свои места между катафалком и главным алтарем, где их уже порядочное время ожидало бесчисленное множество синьоров и дворян, которых усадили в соответствии с заслугами каждого из них, началась торжественнейшая заупокойная месса с музыкой и церемониями всякого рода. После ее завершения на кафедру поднялся упоминавшийся уже Варки, с тех пор лишь однажды выполнявший ту же обязанность для светлейшей синьоры герцогини Феррарской, дочери герцога Козимо, и, ораторствуя оттуда с изысканностью теми оборотами речи и тем голосом, которые особенно были ему свойственны, он повествовал о славе, заслугах, жизни и творениях божественного Микеланджело Буонарроти. И, по правде говоря, величайшим благодеянием судьбы было создание нашей Академии до смерти Микеланджело, и благодаря ему и были его похороны отмечены таким почетом и столь великолепной и почетной пышностью. Равным образом, большой его удачей следует считать, что раньше Варки отошел он из этой к вечной и блаженнейшей жизни, ибо не мог бы он быть прославлен человеком более красноречивым и ученым. Надгробная речь мессера Бенедетто Варки в скором времени была напечатана, как вскоре после нее и другая столь же прекрасная речь, также прославляющая Микеланджело и живописное искусство, составленная благороднейшим и ученейшим мессером Леонардо Сальвиати, молодым человеком, в то время лет двадцати двух, столь редкостным и счастливым по таланту во всякого рода сочинениях латинских и тосканских, что и сейчас знает весь мир, а в будущем узнает еще лучше. Однако, что я скажу и что могу я сказать, не сказав слишком мало, о доблестях, доброте и благоразумии преподобнейшего синьора председателя дона Винченцио Боргини, упоминавшегося и выше? Разве только, что был он главой, был вождем и был советником доблестнейших членов Академии и сообщества Рисунка, справивших вышеописанные похороны. Действительно, если каждый из них и сам по себе был способен создать нечто гораздо большее того, что остальные создавали в своем искусстве, то все же ни одно предприятие никогда не доводится в совершенстве и до похвального конца, если один человек, как опытный кормчий и капитан, не управляет всеми остальными и над ними не главенствует. А так как описанное убранство всему городу в один день увидеть было невозможно, его, по соизволению герцога, оставили на месте на много недель.
Мы не приводим здесь огромное число эпитафий и латинских и тосканских стихов, сочиненных многими достойными людьми в честь Микеланджело, так как они сами по себе составили бы целую книгу, а также и потому, что другими писателями они были уже записаны и выпущены в свет. Не премину, однако, напоследок упомянуть и о том, что после всех вышеописанных почестей герцог распорядился отвести почетное место в Санта Кроче для надгробия Микеланджело, ибо еще при жизни он завещал похоронить его в этой церкви, где были погребены и его предки. И весь потребный для надгробия белый и цветной мрамор Его Превосходительство передал в дар Лионардо, племяннику Микеланджело, заказ же на выполнение гробницы по рисунку Джорджо Вазари вместе с бюстом Микеланджело получил Баттиста Лоренцо, стоящий скульптор. А так как предполагались три статуи – Живописи, Скульптуры и Архитектуры, первая из них была заказана упомянутому Баттисте, вторая Джованни дель Опера и третья Валерио Ноли, флорентийским скульпторам, которые одновременно с гробницей работают и над статуями, которые скоро будут закончены и займут свои места. Расходы взял на себя упомянутый выше Лионардо Буонарроти; однако же Его Превосходительство, желая принять участие во всех почестях, воздаваемых великому человеку, намеревается воздвигнуть, как он уже давно задумал, памятник с его именем и бюстом в соборе, где мы видим имена и изображения других выдающихся флорентинцев.
Ссылки:



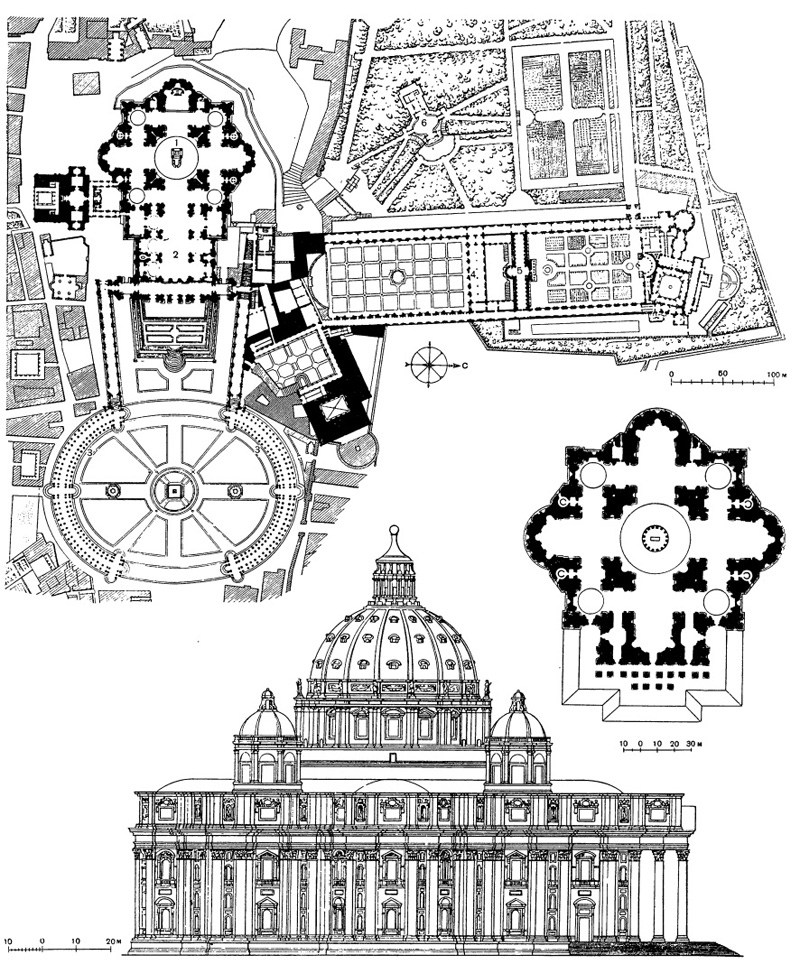
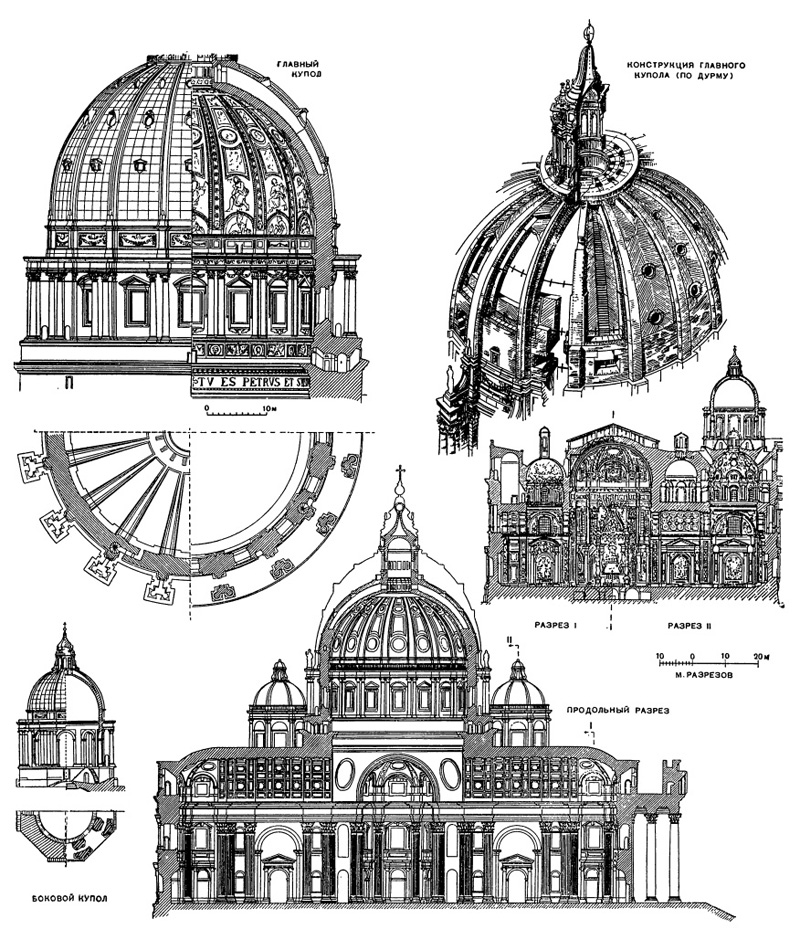

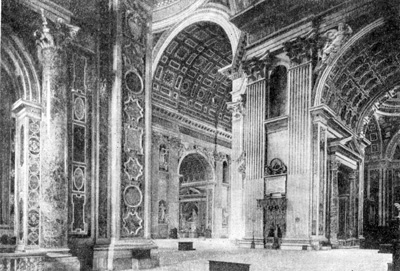


Добавить комментарий